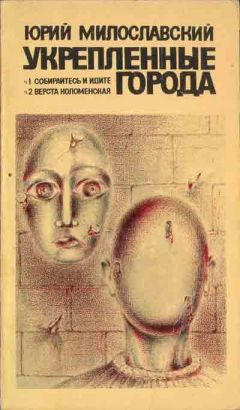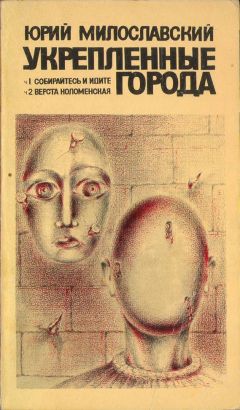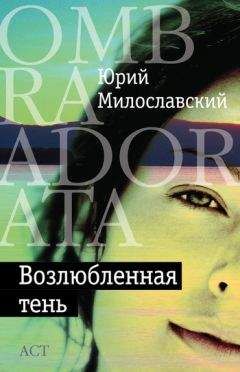Еженедельное совещание. Первое дело — принесенная Зоаром-шнырем четырехэкземплярная бумага: «Относительно — дополнительных данных.» А сверху: как водится — Государство, Департамент, кому: всем начальникам отделов, распространение: ограниченное. «Уважаемый (ые) господин (да), в дополнение к отчету от определенного месяца желательно присовокупить…» Присовокупили.
Бумага в целом предлагала следующее: многие прибывшие в Государство Представители Движения-за-выезд требуют квартиры отдельно от родителей, прибывших вместе с Представителями, а также раньше или позже. Однако Службы Интеграции не в состоянии предоставить всем престарелым отдельное жилье и потому вынуждены в ряде случаев поселять родителей Представителей в специально оборудованных двух- и трехжильцовых квартирах, либо в небольших городках, как правило, расположенных на некотором расстоянии от мест проживания Представителей, находящихся в центре Государства. Смысл: бумага обращала внимание на тот факт, что родители Представителей могут стать объектом провокаций со стороны враждебных организаций и государств.
— Я ему, блядиному сыну, сто раз говорил, — завелся без ключа нетонкий человек Ноах-старлейт. — Я ему тысячу раз говорил: «Неужели трудно дать двадцати ребятам, нашим ребятам! то, что им хочется?!»
— Ты не понял, господин мой, — заговорил вредный Игаль, пошел писать бритвою направо-налево. — Они, господин мой, не хотят жить с родителями. Они хотят пять комнат, а родителей — не хотят. В России они жили впятером в одной комнате, а в Государстве они хотят жить одни в пяти комнатах…
Тяжело знать про всех — все, а не говорить — ничего.
Легко знать половину, а считать, будто знаешь — все.
А хуже всего: знать, что знаешь, считать, что считаешь — но не говорить никому. Так, мол, и так, Левка, понял? Ты всегда был дурак. Хотя бы потому, что национальное спортивное объединение «Работяги» — более национально, более спортивно. А «Герои» твои — компания глупцов: никакого спорта, одна шовинистическая партизанщина. Разве ж мы не хотим создать Национальное Спортивное Объединение от Нила до Евфрата? Всему свое время, Левка, понял?
— Молодые не хотят жить со старыми — естественно, — делится результатом многолетних исследований Рафаэль Шахар — начальник соответствующего Отдела. — Но мы о чем? О безопасности. Решаем! Лица, входящие в составленный нашим Департаментом список, должны без криков получать квартиры поблизости от…
Левка — был дурак. Шахар — ну, нет! Не дурак, а не понимает. Нет никакого ущерба безопасности. Даже если этих горбышей, этих низеньких и колченогих пап-мам, мам-пап враги Государства приведут под конвоем в квартиры их активных детей, разденут донага и начнут стегать по горбам раскаленными шомполами, марая приобретенные активными ковры — со скидкой в двадцать процентов, — дети с честью выдержат испытание. Врагам придется перейти к детям — и тогда… А-а, Арнон, ты по-настоящему сошел с ума. Почему я ненавижу их? За то, что они не хотят жить с мамами-папами, папами-мамами. А мои дылды хотят со мною жить?! Так я ж — здоровый дядька, я и сам с ними жить не стану!.. Сам, коли надо — им же и помогу!..Господи, Твоя воля, — прости, — но Ты превратил в мыло родителей Игаля, родителей Шахара… Бедный Шахар. Пригласит на беседу очередного активного — и спрашивает: «Скажите, вам фамилия Ройхман — ничего не говорит? Ну, не имеет значения… Старший брат. Я понимаю. Нет, не думаю, чтобы он участвовал: ему семьдесят должно быть. Как в сорок первом году расстались, так… Хорошо. Так вы говорите, что КГБ пытался завербовать… «Бедный Шахар. Бедный я — приходишь домой из «Работяги» — сидит папа, читает польскую газету. «Арнон, как дела?» Отлично, папа. А мама где?» А мамочка пошла к Левенбергу за мылом…»
Не получается. Откуда папа знать-то может, что меня теперь Арноном…
— Ты говоришь, — дать им, что просят? Не оставлял Игаль на друге-Ноахе живого места.
— Этот… Элькин, журналист, выбил пять комнат — с учетом матери. И выгнал ее на улицу. Пришлось в приют устраивать! Они все…
Как говаривал руководитель национального спортивного объединения «Работяги»: не обобщай еврейцев. Как говаривал, не помню, кто: чти отца своего и матерь свою. Проклят всякий, кто. Проклят. И выпил Ной вина, и опьянел, и обнажил себя посреди шатра своего. И увидел Хам наготу отца своего… Когда Ной проспался от вина своего и увидел, что сотворил над ним меньшой, то сказал: проклят Ханаан, раб рабов да будет он у братьев своих.
В целях сохранения безопасности — прикрыть наготу не глядя. И Арнон указал:
— Сделаем запрос. Квартирные проблемы — за минуту не исчезнут.
А если б Ты, Господи, повелел Исааку принести в жертву Авраама? И Сарру заодно. Не то, чтобы я решаюсь советовать.
И прости, Господи, Рафаэля Шахара за то, что вопросы его — туфта. Давно известно — умер брат, только официального сообщения не получено. Так вот: КГБ, зная, что Шахар брата разыскивает, может агента подсунуть. Знающий мертвого брата — есть агент. Допустимо? А я, Господи, прощу его за то, что не верит Рафаэль Шахар в братнину смерть — ждет.
А Ты за это — прости меня.
То ли это небо — цветом в серую соль, то ли это море, цветом — естественно! — в небеленую парусину, то ли это — стихи для Маринки Веселовской, — кои давно написаны и напечатаны не однажды? И Маринке самой — сорок лет. Это тебе не болт собачий, — а сорок лет петербурженке из коммунальной, петербурженке с лестницы, где железные перила. Как вела она меня по лестнице ледяной. По лестнице ледяной — стылые перила. Молча, молча! (Автоцитата).
То ли это сад по имени Зеркальная Струя, где над конструктивистским прудом не дремлют плакучие ивы; не дремлют, — но независимо ото всех вместе взятых романсов, — бодрствуют?
То ли это пьянка с то ли дурным, то ли хитрым кагебистом Валерой, пьянка за день до откидона. Поил он меня коньяком одесского разлива и просил ему альбомы «Классик дель Арте» высылать на домашний адрес — собирает… Болван? Шпиен? Вольтанутый? Не знаю и знать не хочу.
…В той мельнице-маслобойке водились бы черти — «будь я поромантичней. Но и масел там уже не били — речка позволила себе обмелеть. Зато были в ней, речке, некоторые пресноводные мидии. Ими кормили свиней, а, возможно, гусей. Украина.
И по пути на Гомель начались, — говорят, — Брянские леса. Каждое дерево равномерно обложено снегом. Брянские леса были столь велики, что и краешек их поезд объезжал около двух суток. Они, леса, не являлись природным богатством, либо, например, великой стройкой коммунизма, либо великой стройкой иной общественно-экономической формации. Брянские леса были велики — и никакое дальнейшее укрепление государства не могло заставить те леса врасти обратно во чугунную землю. Даже если собрать воедино все трудящиеся массы, вооружить их современной технологией, поставить во главе масс Вейсмана-Моргана-Бербанка-Лысенко и параличного академика-орденоносца Василия Робертовича Вильямса, — все равно: в ближайший исторический период задача будет далека от полного разрешения. Возможно, что я ошибаюсь, но — обнадежен. Беларусь.
Все остальное — исключая солнечную Среднюю Азию, гористый Кавказ, сравнительно недавно освобожденные прибалтийские республики со столицей в Рижском Бальзаме, — было Россией.
Прощай, солнышко мое, — по междугороднему не дозвонишься, по международному — накладно, а письма — требуют причины. Кто кого требует?
На белом «олдсмобиле» под малиновый «панк», да под столь же малиновые «диско» и «кантри-стайл»? Не при моем общественном и материальном положении. Словом, я не смогу, а те, кто похвалялись, будто могут, давно скоропостижно скончались от безвременной апоплексии… Пришел пиздец всему казачеству.
— Сие есть политическая концепция?
— Граф, вы смешон, сие, напротив, не есть политическая концепция.
…
До пяти можно заниматься замедленным перебором старых текстов. С трех до пяти. С часу до трех можно делать неизвестно что: но не полезные занятия. Полезные занятия — это затолк в стиральную машину подгнивших простыней. Простыни подгнили, так как по окончании предыдущей стирки я очень долго держал их в тазу мокрыми. Хотя не позже, чем через три дня следовало вывезти их на крышу, где находятся бельевые веревки. Я-то вывез, но все веревки были заняты, а единственная незанятая была разрезана на кусочки длиной в двадцать-трид-цать сантиметров. Развлекались. Я и удалил обратно грузный желтый таз. Даже если б я повесил тряпье, то все равно часть простынь подгнила бы: я не снимаю повешенное дня четыре, а за это время случился бы ураганный ветер, что срывает белье, расчленяя вялые прищепки, — срывает и бросает в кучи цемента, оставленные строителями три года тому. Странный цемент: множество дурных погод прошло, а он — свеж и рассыпчат… Та часть белья, что не попадает в цемент, несется по направлению к Мертвому морю. Но не долетает, оказывается на овечьих пастбищах ближайшей арабской деревеньки, — безлиственной, стыдливой, в окружении голубых бугорков. Значит, сила ветра преувеличена высотою, скоростью пролета облаков, открытым пространством. А мне до этого наблюдения казалось, что прыгни я с крыши, то будет меня телепать-кувыркать, разносить-вздымать, покуда не шлепнет о дальний пригорок смесью помидора, сырого яйца и чего-то вроде этого пласта красноватой селедки с выпершими паутинными косточками… Селедка по имени «матиас» упала на пол и в пищу теперь не пригодна.