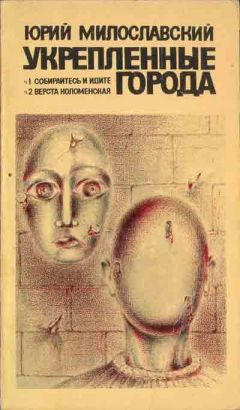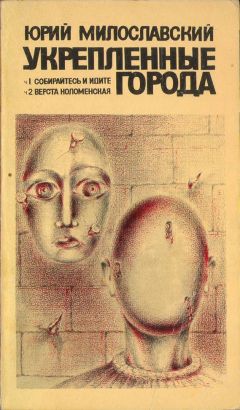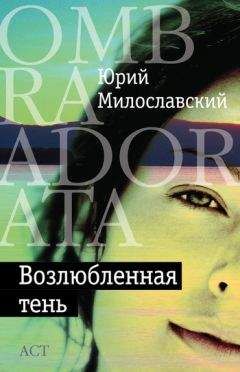С одиннадцати утра до часу дня я вставал, умывался-одевался (чистил зубы пастой «Кольонс», что подвергалась неоднократной рекламе иорданского королевского телевидения, вытирал задницу туалетной бумагой «Молетт» — устаю я от внимания к именам бытовых продуктов, но так надо: знамение времян), шел в бакалейную лавочку курляндского-эстляндского выходца. Выходец вознамерился продать мне по самовольно завышенным ценам субсидированные Государством: белый батон, пакет молока, стаканчик сметаны, сто граммов сыра, сто граммов масла, пачку сигарет «Нельсон». Я называл приобретаемую мною хаванину на своем бронебойном иврит, а выходец повторял наименования на языке пятой графы. Повторил — и выдавил чек из автоматической кассы: нам вашего не надо. Я чек изучил и, глядя на банки ананасного компота, стоящие на подпотолочной полке, спросил: «Третья цифра снизу — что?» Научись, выходец, моему короткому взреву на последнем слоге: так унтер из Курдистана вопрошал меня насчет ржавчины в затворе…
— Я дико извиняюсь, — ответил выходец. — Ты ж понимаешь, что я тебя не наебываю. Местную гниду наебу, черного, — а своего человека — я еще не настолько дешевый.
Вычеркнул, пересчитал, подвел итог — и назвал истинную цену белого батона, пакета молока, стаканчика сметаны, ста граммов сыра, ста граммов масла, пачки сигарет «Нельсон».
На завтрак я приготовил: поджаренный в масле хлеб, сыр, чай, пять черных маслин. Маслины, чай, а также немногочисленную колбасу я беру в магазине валютного вида, расположенном в районе проживания национального меньшинства — преимущественно христианского вероисповедания. Разговор только по-английски, — но мой персональный «макаров» с патроном в стволе стоит на запасном пути у копчика, упрятанный во внутреннюю кобуру. Люблю добрососедские отношения, скляночки с русской и датской икрой, крабами датскими же, круглые картоночки с французскими плавленными сырками. Выходит Валери Жискар д" Стан из Елисейского дворца, кирнет «Наполеону» и сырком — загрызет. Худо ли?
Есть часы от пяти до семи. К ним надо готовиться, их надо пройти, постоять, пробыть, не давая себе воли признаться, — что это за часы. С четырех часов надо готовиться: одеревенеть, превратиться в сухое растеньице с полым стеблем, ни в коем случае не видеть измерителей времени — и тогда все пройдет. Нельзя звонить по телефону: никого из мало-мальски хороших людей дома не окажется, а напорешься на сукотину, которой в жизни не позвонил бы — если б не часы от пяти и до семи. Стыдно потом будет — после часов от пяти и до семи. Не звони, Витя, не звони, Витя. Книжечку почитай, — у тебя их как грязи, две тысячи экземпляров. Главное, двигайся упорядочено и системно. Из армии тебя выгнали за психическое расстройство? Выгнали. На пристойную работу тебя берут? Не берут. А делать ты что-нибудь можешь? Не можешь. А желаешь? Не желаешь. А где твоя жена? А нетути. А где твои детки? А…далеко. А как ты себя чувствуешь? А — хорошо. А стишок новый хочешь продекламировать? Хочу, Так декламируй! Декламирую: от пяти и до семи — Вечер Смертныя Тоски. От тюрьмы да от сумы — голоски да лоскутки… А дальше? Будьте любезны: зарекался, а попал — не был загодя готов. Пузырями выпал пар тридцати моих годов. Замечательные стишки. Двадцати моих годов, тридцати моих годов, сорока моих годов. На десять лет в каждую сторону стишками себя обеспечил. А как насчет обязательности каждого слова в настоящем художественном произведении? А как насчет того, чтобы сходить на хуй. Ну-у-у…
Телефон зазвенел. Зазвенел телефон, потому что уже семь часов и три минуты. Еще раз проскочило.
— Да.
— Витька, привет.
— Верста, садись в тачку и приезжай, только мгновенно.
— Во тебе! Потом в семь утра вставать и ехать обратно.
— А чего ты звонишь?
— Так; пропал ты что-то, вот я и решила узнать — может, ты сдох.
— Нет.
— Ну и слава Богу. Чем ты занят?
— Жизнью.
— Ясно. Будь здоров, дорого разговаривать. Мог бы девушке перезвонить.
— Я сейчас приеду.
— Приезжай. Но учти…
— Явления менструального цикла?
— Явления. И чтобы не было разговоров о русской и зарубежной литературе, арабо-израильском конфликте и прочего говна. Серьезно, Витя, я не шучу. Мне это не интересно, понял?
— Некоторые говорили, что телефонные разговоры между Иерусалимом и Тель-Авивом стоят бабки…
— Я тебя предупреждаю. А то ты после расстраиваешься, а я злюсь.
— Я поехал.
— Счастливого пути.
Задние сидения в автобусе устранены — дабы палестинским борцам за национальную независимость труднее бомбы стало подкла-дывать. А остальные сидения — засижены пассажирами. Трясись, Витя, сзади, как в России трясся: смотри в пол, или закрой глаза — тогда возникает полное совпадение и приведет к воспоминаниям… Но ехали мы за переменою ощущений?! Тогда гляди; на всех мужах зеленые вздутые куртки с капюшонами-колпаками — военная одежда. Кто в части спер, кто купил — красиво и удобно. И на мне такая же куртка. И мы похожи друг на друга — наглым смуглым покоем лиц, джинсами в обтяжку, сорочками, раскрытыми до средостения. Скажи мне, Витя, ты кто такой? Авигдор Бен-Арье, старший рядовой в запасе, личный номер: раз-два-три-четыре-пять, вышел Витя погулять.
А в окне — провал, в нем же огненный хлест и мигание: Иерусалим, Иерусалим избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает детей своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст. Невиданый плакатик висит над головою: «На вашем тампоне грибки и бациллы! Лишь только «Нимфон» гарантийно стерилен!» Надо будет Версте сказать, чтобы она себя ничем бацильным не тампонировала.
Мы поехали в Ялту — где растет золотой виноград, где цикады звенят по ночам…
Аккорд, — переход на иной вариант гитарного боя. Бьет по струнам Гриша-певец из ресторана «Парк».
О, Ялта, красавица-Ялта!
Где хребты и отроги твои начинаются,
Крым, по шоссейной дороге летел комфортабельный «ЗИМ»…
О Ялта, где цветет золотой виноград, красавица-Ялта, где цикады звенят по ночам!
За курорт, за междузавтракообеденный шашлык из квадратного корыта с ножками на распорках, — точно в таком я перемыл в мазуте миллион тронутых коррозией частиц автоматика «Узи»: слыхали? стреляли?
— за трикотажные плавки с белою опояскою да с рыбкою золотою на бедре, за японское полотенце из синтетической махры с люрексом, за винишко березка из бочек с утра до вечера, за — дождались! — море с шести утра до полудня, за опять-таки — море с половины пятого до половины восьмого пополудни, за курзал, где стоит на постаменте в три обхвата шестилетний Лукич в натуральную величину, покрашенный медянкой, —
конец первой песни — припев:
так за все за это, за отдых, блядь, отдых! неужто не постараться подкопить к отпуску? Если с семьей, то ничего нет страшного: жена твоя подобреет, подзагорит, попка и сиськи у ней укрепятся, — можно, значит, и жене засадить.
А если ты одинокий или одинокая, в смысле — сам или сама едешь, так! — не стыдись, дорогой, своего ундинизма: приблизительно двадцать четыре рабочих дня и где-то пять выходных.
Тебя не осудит самый последний подлец — поймет тебя даже на ночном песке, на известной по литературе молодой супруге ядерного физика-импотента, между двумя скульпторами из Москвы, под лейтенантом с подлодки, в одурелой от стыда ручке преподавательницы средней школы Ленинграда, — как рада она, что сделала маникюр! — не осудит последний подлец лунный подтек из ротикового уголка студентки из холодного города Новосибирска, —
конец второй песни — припев:
двадцать четыре рабочих дня и где-то пять выходных.
А кто ж не захочет уехать в курорт — навсегда?
Что не натворишь, как не потрудишься за Вечный Курорт, чем только не рискнешь, во что только не влезешь? Да разве ж Иисус пошел бы на крест, кабы не знал, что воскреснет? Любое временное страдание — за Вечный Курорт! Все-все будем говорить правду, не убоимся кесаря, превратим воду в березку — и гвозди прибьют нас ко кресту без наркоза, и придут к нашей гробнице печальные Маши (и Вани!), и спросят: — А где ж Он?
— А Он очистился страданием от тридцатитрехлетнего стука на партсобраниях.
— Да ну?!
— Вот вам и «ну». Очистился и вознесся на Вечный Курорт. Пойдите и возвестите.
И они — Маши и Вани — пойдут и возвестят, что вознеслись мы во Вечную Ялту, Вечное Цхалтубо, Вечный Судак.
Я был уверен, что этим летом увижу город на цветущем берегу. И вдруг увидел, залитый светом, цветущий город — мою мечту. Ялта, где растет золотой виноград, где цикады звенят по ночам…
А здесь нас нет.
А — здесь — нас — нет.
А-а зде-есь на-ас не-ет.
Конец третьей песни.
…
Верста сидела такая злая, что я даже разговор переменить боялся. Обещал не говорить об умном?! Но кто ж его знал, что у нее в гостях — психиатр Старчевский Муля-Эммануил. Неужто, Верста, маленькая моя, запретишь ты мне наплевать душепроходцу в умное лицо?..