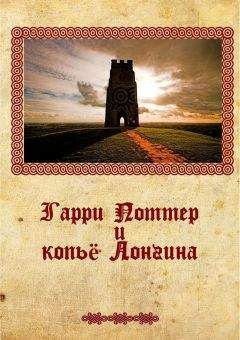55. Горная ложь
Странное чувство. Не то чтобы я не был готов к такому подарку. Просто сейчас мое имя в выгравированной на века предсмертной записке Ван Гога показалось мне словами из давно забытой песни, которая не имеет ко мне никакого отношения. Винни, мертвый гроссмейстер, пытается отвоевать у несуществующего противника еще одну фигуру. Почему меня должно это волновать? Только потому, что я и есть эта фигура?
Шагая по Прорезной с шахматными часами под мышкой, я думал о том, что успел соскучиться за Алисой, хотя не видел ее всего час. Я быстро привязываюсь к женщинам и, что самое страшное, навсегда. Татьяна, Вера, Кете. Они оставались во мне, не желая становиться воспоминаниями, и приходилось смириться с этим невыносимым фактом, как и с тем, что Вера, скорее всего, сделает аборт.
Алиса перебирала старые фотографии, некоторые из них рвала на четыре равные части, другие откладывала в сторону. Уцелело не многое.
– Что это у тебя? – она кивает на подарок от Ван Гога.
– Шахматные часы, – я протягиваю часы Алисе и, включив компьютер Яблонской, вставляю в него дискету с записями, сделанными за последние дни.
– Обрати внимание на дарственную надпись.
Она вертит часы в руках.
– Жаль, – наконец произносит девочка. – Я думала, мы вместе уедем отсюда.
Я смотрю на Алису, Алиса смотрит на меня.
– Что ты имеешь в виду? – спрашиваю я.
– Записка Ван Гога, – объясняет она. – Ты скоро умрешь. Наверно, сегодня.
– Нет, моя девочка, я не буду больше играть в эту игру, – говорю я. – Считай, что на Ван Гоге Тренинг закончился.
– Если бы это от кого-то зависело, Тренинг давно закончился бы, – ее голос звучит в теплом воздухе удивительно холодно. – Думаешь, Ван Гог хотел умирать? Или Татьяна? Они боялись смерти так же, как и ты, так же не хотели умирать. Тренинг дает эмоциональное понимание необходимости ухода, умом этого не понимаешь, даже когда уже подносишь пистолет к виску…
– Откуда ты можешь знать об этом? – перебиваю я Алису.
– Я знаю… – она вдруг дарит мне лучезарную улыбку. – Трахни меня.
Я беру ее на россыпи фотографий. Если смерть действительно рядом, пусть наступит сейчас! Но смерть не приходит даже тогда, когда я без сил падаю лицом на кровать.
– Эй, ты живой? – шепотом интересуется Алиса.
Я поднимаю голову. К мокрому от пота лбу приклеилась одна из фотокарточек. Алиса смеется. Тряхнув головой, я сбрасываю фото. На фотографии изображены две молодых женщины, которые держатся за руки. Судя по дате в углу снимка, фото сделано около месяца назад.
– Она ради нее меня бросила, – произносит Алиса и, отобрав у меня фото, рвет его, как до этого порвала много других.
На фотографии была изображена Яблонская. За руку она держала Кете Кельвиц.
Зачем я наплодил в своей голове столько лжи? Я знаю, зачем.
Проще думать, что убил ту, кто была дороже всех, чем знать, что она ушла, не оставив даже тени надежды на возвращение. Заставить себя думать, что не было никакой записки на зеркале в номере, выбросить все ее вещи, оставшиеся в шкафу, вымышленным убийством уничтожить тяжелую пустоту, придав ей смысл, пусть даже самый жестокий.
– Где она?! – кричу я на Алису.
– Кто? – она действительно не понимает, о ком я.
– Кете Кельвиц.
– Ты ее знаешь? – девочка удивлена. – Откуда?
– Где она? – повторяю я свой вопрос, уже с фальшивым спокойствием.
– Иди ты! – Алиса отворачивается. Кажется, плачет.
Я подхожу к столику, на котором стоит телефон, беру телефонную книжку Яблонской. Буква «К». Кете Кельвиц. Телефон, который я знал, зачеркнут, рядом написан другой.
– Где телефонная трубка?
– Не кричи на меня! – отвечает Алиса сквозь слезы.
Вот она – я набираю номер. Первый гудок, второй, третий, восьмой.
– Алло, – раздается наконец на другом конце провода.
– Кете? – спрашиваю я.
– Да. Кто это?
– Это я, Кете. Это я.
Я знал, что найду тебя, знаю, что сумею вернуть.
Мы разговариваем с ней так, словно виделись вчера.
– Я часто думала о тебе, – говорит она. – В последнее время, почему-то, особенно часто… Мне жаль, что тогда все получилось именно так.
Звуки ее голоса доносятся до меня как капли дождя – откуда-то сверху, пробивая облака и толщу воздуха.
– А если все с начала? – говорю я.
– Это не кассета, которую можно перемотать на начало фильма, – отвечает Кете. – Я совсем не такая, какой ты меня помнишь. И ты, наверно, уже совсем другой…
– Ты мне нужна, – перебиваю я. – Теперь, когда я нашел тебя, я не смогу… Не смогу жить так, как будто тебя по-прежнему нет.
– Ты мне тоже нужен, – признается Кете. – Я ведь не сказала «нет».
– Уедешь со мной?
– Куда?
– Куда захочешь.
– Прямо сейчас?
– Сегодня. Когда будешь готова.
Она думает.
– Двух часов мне хватит, – наконец, произносит она. – Мы поедем туда, где холодно, или туда, где тепло?
– Туда, где тепло. Очень тепло.
Настолько тепло, что все заснеженные воспоминания растают, словно их не было вовсе.
Я снова сажусь за компьютер.
– Ухожу, – говорю я Алисе.
Она молчит, даже не поворачивает голову ко мне.
– Мне жаль, что все получается именно так, – я даже не замечаю, что говорю словами, только что услышанными от Кете. – Но на этом ведь жизнь не заканчивается. Мы еще увидимся, Алиса, я это чувствую.
– Заканчивается, – говорит Алиса тихо, так тихо, что только последние звуки слов доносятся до меня. – Не увидимся.
Я беру сумку. Шахматные часы в дороге мне не понадобятся. Как и все остальное, что связано с Тренингом. Пусть все остается здесь. Единственное, что я возьму с собой – это дискета с заказным текстом, обитатели которого умирают на каждой странице, словно в самом худшем бульварном детективе, который мне когда-либо приходилось сочинять.
Времени еще много, и я решаю заехать на Печерск за кокаином.
/записано Верой Мухиной/ Дюрер был похож на типичного путешественника – дорожная сумка через плечо, отрешенный взгляд направлен вдаль, туда, где он еще не был. Я думала, что почувствую что-то, когда он появится на пороге квартиры, но ничего не изменилось с его приходом. Я чувствовала то же самое, что и раньше – тупую, необъяснимую боль.
– Вера? – он не ожидал меня здесь увидеть. – Что ты здесь делаешь?
– Я здесь живу, Альбрехт. Ты забыл?
Он ставит сумку на пол, садится в кресло напротив меня.
– Все закончилось, Вера, – говорит он. – Тренинг закончился. Я уезжаю.
Он искренне верит в то, что говорит. Я не знаю, с чего начать. Решаю сначала сообщить ему хорошую новость.
– Я рожу от тебя ребенка. Я много думала об этом, и поняла, что действительно этого хочу.
Дюрер улыбается.
– Отлично, – говорит он. – Я очень рад, правда. Я вернусь, когда вся эта история забудется, через несколько месяцев. Я буду с тобой, когда ты будешь рожать.
Он ничего не понимает, мальчишка, глупый. Наверно, за это я и полюбила его – за эту удивительную способность смотреть сквозь смерть, словно она сделана из стекла, всегда думать, что жизнь бесконечна, что кто угодно способен умереть, но только не он.
– Я хотела попросить тебя… – у меня мало времени, скоро должны прийти уборщики и издатель книги. – Отдай мне, пожалуйста, текст.
– Текст? – переспрашивает он. – Ты о чем?
– О твоей последней книге, – с трудом произношу я. – Ван Гог должен был предупредить тебя.
Дюрер смотрит на меня неподвижным взглядом.
– Значит… И ты – Тренинг? Ты тоже с ними?
– Ты знал, что я с ними, – отвечаю я. – Знал с самого начала.
Он встряхивает головой, словно отгоняя от себя ненужную мысль.
– Ладно, какое это имеет значение! – он бросает дискету на кровать рядом со мной. – Держи.
– Я проверю файл, хорошо?
– Пожалуйста, – он уже собрался уходить, но снова садится. – Кстати, кокаин тебе не нужен? Тогда я его заберу.
«Времени еще много, и я решаю заехать на Печерск за кокаином», – перечитываю я последнюю фразу в тексте.
– Зачем это нужно? – спрашивает Дюрер. – Я имею в виду этот текст.
– Это – апокриф, – говорю я.
Сейчас ему уже можно говорить что угодно. Даже правду.
Дюрер смотрит на меня так, словно я только что выдала свою неизлечимую душевную болезнь.
– Твой текст рассказывает о жизни и смерти всех участников Тренинга, – страница за страницей открывала я ему правду. – Тренинг – это идея, его не существует и никогда не существовало в общепринятом смысле этого слова. Для успешности Тренинга необходимо, чтобы все его участники тоже стали идеей. И это произошло, – я провела пальцами по монитору компьютера.
– Ты бредишь, Вера, – Альбрехт скрестил руки на груди. – Это всего лишь буквы, текст.
– Букв достаточно для передачи идеи, – я ощущаю, что мне жаль расставаться с ним, ощущаю это низом живота, где зреет его ребенок.