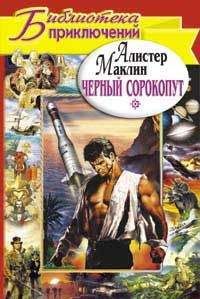Яков, насупившись, сказал:
— Войну народ выиграл. Она же Отечественная была. У меня дед фронтовик. Он, правда, про войну не любит рассказывать. Только если сильно выпьет, и то больше матом ругается.
— Люди на войне совершают чудеса, — сказал Ян. — Только в двух случаях. Если за спиной Родина и вдохновляет бог. Родину никто не отменил, а дядюшка Джо сумел стать богом. Прискорбно, но факт. Даже мой покойный отец рвался в Войско Польское, драться с нацистами. Но не взяли по анкетным соображениям. Честно зарабатывал свой туберкулез на оборонном заводе. Правда, после Победы в братскую Польшу переехать не захотел. Он мне, конечно, ничего по этому поводу не говорил, но, как я понимаю, не захотел менять шило на мыло. А может просто эти горы любил.
— Хороший был человек, — сказал дядя Жемки. — Порядочный. Аллах, наверняка, его сразу в рай определил. Помянем!
— В общем, грядут перемены, — сказал Ян. — Насколько я наблюдаю, самой номенклатуре осточертела вся эта распределиловка, вечное братание с гегемоном под недрёманным оком старых товарищей. У нас тут случай недавно был, и смех, и грех. Образовалась вакансия послать двух третьекурсников с юридического факультета на полугодовую стажировку в Пражский университет. Боже ж мой, задрипанная социалистическая Прага! Половина руководящего состава аппаратов солнечных республик слетелась, своих сынков пристраивать. Чуть на кинжалах не подрались…
— И кто поехал в результате? — спросил Яков.
— А-а! Военная тайна, — сказал Ян. — Какая разница?! Тот, кто поехал, постарается не вернуться. А если вернётся, полный дурак будет.
— А мы в мае на Иссык-Куль собираемся. Поехали с нами, Ян, — сказала Жемка.
— Я постараюсь, ласточка, — сказал Ян. — Мать хворать стала, подозрение на онкологию. Хочу её в Новосибирск на обследование свозить, там достойная профессура…
До наступления лета они увиделись с Яном всего один раз. Мать его на самом деле сильно разболелась, поездка на Иссык-Куль тоже сорвалась, в связи с Олимпиадой в Москве экзамены в театральный сместили на начало июня, так что Жемка была вся в хлопотах и подготовке к скорому отъезду.
Ян пригласил их в закрытый ресторанчик при киностудии. «Посторонних не бывает, — сказал он, тихо сообщив заветное слово швейцару, и проводил в уютный зал. — Исключительно богема местного разлива. Но кормят хорошо и у музыкантов все западные новинки, в рамках цензуры, разумеется».
Яков с любопытством посматривал по сторонам. Богема была вся сплошь незнакомая, только пару лиц, кажется, он видел по телевизору. Но в телевизоре они были свежее. Заиграла музыка и Жемка пошла танцевать.
Ян был нервный и много пил. «От него просто веет антисоветчиной! — подумал Яков. — Эх, добром это не закончится!»
— Что делать собираешься? — спросил Ян.
— Не знаю, — сказал Яков. — Ты про что?
— Жемка поедет в Москву, скорей всего поступит, во всяком случае, там и останется. А ты что будешь делать? Снег убирать на турбазе?
— Не знаю, — сказал Яков. — Мы с ней об этом не говорили.
— Достойная молодости инфантильность. Только совершенно не свойственная евреям.
— Среди евреев не встречал ни одного умного мужчины и ни одной красивой женщины, — вдруг сказал Яков.
— Да ну! — рассмеялся Ян. — Это ты про себя?! А я встречал. И не одного. Запомните, мой юный друг, лучшие финансисты в мире это евреи. Барон Ротшильд, например.
— Ну, это там у них… — сказал Яков.
— Там, здесь… — передразнил его Ян. — Эх, веселая компания у нас собралась. Казашка, которая отзывается на французский, я по-польски ругаюсь и польские песни пою, когда пьян, а на родине не был и не тянет, еврей, который не любит деньги. Натуральный паноптикум.
— Что такое паноптикум? — спросила Жемка, едва ли не рухнувшая у столика. — Ух, натанцевалась вусмерть!
— Это такая волшебная шкатулка, солнцеликая Будур, где живёт веселый джинн, который дарит маленьким девочкам счастье, — сказал Ян.
— Хочу! — сказала Жемка.
— Не получится, — сказал Ян. — Сначала надо заслужить, многодневными трудами.
— Тогда неинтересно, — засмеялась Жемка. — Я быстренько в дамскую комнату.
— В общем, так, — сказал Ян, когда Жемка вышла. — Я не знаю, какая у вас там любовь, платоническая или не очень, и ты, конечно, можешь хвостом потащиться вслед за Жемкой в Москву, но вынужден сказать суровые слова: для тебя это бесперспективно. Жемку закрутит вихрь столичной жизни и ты очень быстро окажешься лишним. Будет больно, обидно и грустно.
Ян помедлил, а затем продолжил:
— Сожалею, но ваша романтическая история подошла к логичному завершению. Поэтому предлагаю воспользоваться рекомендацией незабвенного Карла Маркса…
— Причём здесь Карл Маркс? — перебил его Яков. — Чего-то я не понимаю…
— Сейчас объясню, — сказал Ян. — Карл Маркс писал о том, что каждый крупный капитал нажит не вполне честным путем. Я полагаю, он знал, о чём пишет.
— Какой капитал, какой честный путь?! — сказал Яков. — Ян, ты напился, что ли?!
— Мне тут все обрыдло, — сказал Ян. — В этом замечательном городе, в этом дебильном университете. Я хочу уехать, единственное, что удерживает это мать. Но буду циничен: врачи поставили окончательный диагноз, ей жизни от силы пару месяцев.
Ян посмотрел на Жемку, которая возвращалась к столику.
— Отправь-ка ты нашу красавицу танцевать, а мы с тобой выйдем подышать и поговорим серьёзно.
— Вы чего такие загадочные? — сказала Жемка, сев за столик. Яков наклонился к ней и шепнул на ухо: «Слушай, Яну как-то нехорошо. Мы выйдем на улицу?!»
— Ладно. Я тогда танцевать, — сказала Жемка и упорхнула.
Во дворике ресторана Ян глубоко вдохнул и сказал:
— Да, гор, пожалуй, мне будет не хватать. Я навёл кое-какие справки. Есть такой славный порт Находка, самый крупный на Дальнем Востоке и единственный, где нет закрытого паспортного режима. Зато буржуинские пароходы заходят туда с завидной регулярностью. Понимаешь, куда клоню?
— Нет, — сказал Яков. — Пскопские мы, не догоняю.
Из ресторана донеслась задорная мелодия «В Кейптаунском порту». Ян, пританцовывая, продолжил:
— Буржуинские пароходы, сэр, это импортные шмотки, маги, парфюм, которые меняются на русское бухло и русскую икру.
Он сделал легкое па:
— При грамотной организации дела импортные тачки, от которых тащатся наши загорелые братья с Кавказа. Коммерция не вполне законная, точнее, вообще незаконная, зато прибыльная, зараза. А к переменам надо готовиться. А готовиться лучше с деньгами на кармане.
Он прекратил танцевать:
— Вот, вкратце, о чём писал Карл Маркс. Предлагаю стать компаньоном. Это веселее, чем на Чимбулак глазеть с утра до ночи.
Яков сосредоточенно изучал могучую чинару, устилавшую ветвями крышу ресторанчика.
— Понимаю, надо подумать, — сказал Ян. — Думай. Время есть. У того же неиссякаемого Карла Маркса есть стихи…
— Он разве стихи писал? — спросил Яков.
— Баловался в юности, — сказал Ян. — Настоящий немецкий романтик. Я даже запомнил:
«Так давайте
В многотрудный
И далёкий путь пойдем
Что-то там тра-та-та-та-та-там, под ярмом постыдной лени, и главное:
В дерзновенье и в стремленье
Полновластен человек!»
Усекаешь?
— Я в поэзии не очень… — сказал Яков. — Мне к родителям надо съездить. Я после службы ещё не был.
— Отлично. Съезди, — сказал Ян. — Сменишь обстановку. А по осени и двинемся в дальние края…
Они стояли с Жемкой на перроне и молчали. Между их поездами интервал был двадцать минут, Жемкин в Москву раньше, его — позже.
— Ты мороженое не хочешь? — спросил Яков.
— Нет, — сказала Жемка. — Ты не уходи, я боюсь одна остаться.
— Я приеду к тебе. Обязательно, — сказал Яков. — Побуду немного у родителей и приеду.
— Где ж я тебя поселю? — сказала Жемка. — В общежитие, наверное, не пустят.
— Придумаю что-нибудь, — сказал Яков. — Попрошу отца тётке написать. У меня же тётка в Москве живёт, пусть приютит на время.
— Ладно, — сказала Жемка. — Пошли, наверное, в вагон.
В купе он забросил Жемкин чемодан на верхнюю полку:
— Никого нет. Может, одна до Москвы поедешь.
— Хорошо бы, — сказала Жемка. — Я тогда стихи буду повторять.
Они вместе подобрали для конкурсной программы отрывок из «Облако в штанах» и «Любовь миноносца к миноносице» Маяковского.
— Ну, я пойду, наверное, — сказал Яков. — А то скоро мой поезд.
— Ладно, — сказала Жемка.
— Ты только сразу адрес напиши, чтобы я знал, куда ехать, — напомнил Яков.
— Ладно, — снова сказала Жемка и вздохнула.
На перроне он подошёл к вагонному окну. В купе размещала вещи немолодая матрона с двумя детьми.
— Я люблю тебя! — сказал Яков.