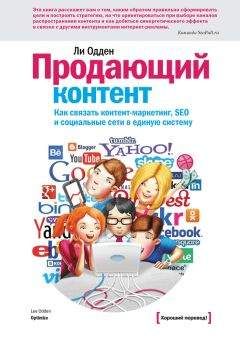— Звать как, спрашиваю?
— Николай. Коля.
— Стас, — солдат сам нащупал его ладонь, раскрыл, стиснул в своей и несколько раз повторил своё имя:
— Станислав меня звать. Стас. Понял, нет? Стас я с Новгородской области.
Ладонь Николая была влажной, вялой, и тут же безвольно опустилась вниз.
— Вы давно здесь? — не поднимая головы, тихо спросил Ашот.
— Да кто как. Я — с год. Сос вон лет пять уж у чехов сидит. А дед Богдан и сам небось не помнит сколько.
Станислав устало прилёг на гнилое, грязное тряпьё и неторопливо вытянул скованные ноги. Кандалы негромко звякнули.
— Я на войне в плен попал, прошлым летом. В горах, в Аргунском ущелье. Раненый был, контуженый. Вначале чехи меня на обмен держали, хотели на кого-то из своих обменять. Да потом того чёрт дёрнул в побег пойти. Ну, его наши и вальнули. Так я в горах до весны и просидел, а потом меня сюда продали, чтоб хоть что-нибудь получить.
Сослан запустил руку в открытую пачку макарон, набрал их целую горсть и принялся грызть.
— Короче, пацаны, — продолжил Станислав. — Я вам так скажу: выжить здесь можно. Вон на деда Богдана гляньте — уж тридцать лет как у чехов по ямам сидит, а всё живой.
— Сплюнь, — проворчал Сослан.
— Живой-живой. Только вот ухо за побег отрезали.
— Чё, в натуре? — и глаза Ашота, вперившиеся в старика, округлились.
Воцарилось тягостное молчание.
— Да уж, с тех пор я больше не бегал, — тихо проговорил, наконец, старик, проведя рукой по нелепо оттопыренному остатку уха. — Меня в горах всё держали. Оттуда хрен убежишь. А когда сюда, на равнину попал, то уж стар слишком был, сил не было. Сегодня вон лопату взял хлев разгребать, так руки чуть не отвалились — куда уж тут бежать, — и, помолчав, прибавил с тяжким грудным вздохом. — Нет. Со мной кончено.
— Поняли? — многозначительно протянул солдат. — Так что думайте, как вам быть.
Он приподнялся, придвинулся к осетину и тоже загрёб горсть макарон. Толкнул вбок Николая:
— На, поешь, — и отсыпал тому половину в машинально раскрывшуюся ладонь. — Другим здесь всё равно не кормят.
Николай начал вяло совать их по одной в рот, долго посасывая, прежде чем проглотить. Во дворе погасили фонарь, и в яме сделалось совсем темно.
Наконец он сказал:
— Меня не выкупят. Родители бедные, откуда у нас деньги. Меня, наверное, вообще случайно похитили, по ошибке.
Ашот глянул на него пристально, но промолчал.
— Может, и по ошибке, — пожал плечами солдат.
— И чего, я так и буду сидеть здесь?
— Если платить некому, то труба дело, — Станислав покачал головой. — Так просто они в жизни не отпустят.
— А если снова война начнётся, если войска сюда придут?
— Тогда чехи будут перевозить нас из аула в аул. Хотя, бывало, если наши их крепко давили, то они просто зинданы гранатами закидали. Им свидетели не нужны.
Руки Николая дрогнули, и из разжавшейся ладони макароны посыпались на землю. По худому, туго обтянутому кожей лицу заструились слёзы.
— Гады! С-суки! — вскричал он. — Суки!! — и хлопнул кулаком по дну ямы.
— Ты потише, слышь? Чехи услышать могут.
Но Николай повалился наземь и забился, выкрикивая визгливо:
— Суки! Суки!
Он раскидал тряпьё в стороны, и его тонкие пальцы заскребли влажную податливую землю.
— Э, да успокойся ты! Хорош!
— Гады!!! Ненавижу!!!
Старик Богдан замер в страхе, боясь, что хозяева услышат крики.
— Суки!!!!
— Сос, держи его! Сос! — и Станислав навалился на Николая сверху, в темноте наощупь зажимая ему руками рот.
— Сууууууккиииии! — отбрыкиваясь, выл тот.
Сослан навалился с другой стороны, схватил за ноги.
— Тише ты! Тише, — зашипел он. — Не ори — услышат.
Николай хрипел, мычал и продолжал рваться с яростью, суча скованными ногами по земле.
— Да заткнись ты, псих! — рявкнул ему в ухо Станислав. — Пристрелят ведь тебя.
И он с силой ткнул его кулаком по рёбрам, хлопнул ладонью по лицу:
— Заткнись!
— Тихо, тихо, — бормотал сквозь зубы Сослан, прижимая его ноги к земле.
Наконец, Николай затих, обездвиженный, обмякший.
— Всё, всё, — повторял солдат. — Нормально всё. Спокойно.
Он держал его крепко, ощущая под пропотевшей насквозь одеждой тощее, жалко подрагивающее тело.
— Спокойно.
Потом он разжал руки и привстал. Николай не шевелился, лёжа неподвижно, отвернувшись лицом к стене. Станислав не спеша набросил на него сверху большую, извазюканную в земле дерюгу — остаток одеяла.
— Накройся. Холодно здесь по ночам, — сказал он.
Невольники разлеглись вдоль стен и, навалив на себя кучу грязного тряпья, зарывшись в него с головами, заснули. Ашот приткнулся к осетину сбоку, свернув калачиком своё толстое тело.
В прерывистом, неспокойном сне он видел бородатых боевиков, с радостными, звероватыми лицами, которые ловко резали глотки стриженым худосочным солдатам, лежащим на земле со связанными за спиной руками — как на тех кассетах, которые он смотрел когда-то дома у одного своего приятеля-горца. Одежда на пленных была изодранная, облепленная грязью, с отпечатками чьих-то подошв. Сквозь прорехи виднелись костлявые, в багровых кровоподтёках юношеские тела.
Ашот сжался ещё сильнее, и на нём, несмотря промозглый предутренний холод, проступала жаркая испарина. И ему уже мерещилась на горле холодная сталь ножа, а во рту делалось горячо и солёно.
Утром над ними заскрежетал отпираемый замок, и грубый голос гаркнул зло:
— Э, а ну подъём! Быстро!
Всю неделю рабы пахали без продыха. Точнее, пахали Станислав, Богдан, Сослан да Николай, которого отрядили им в помощь. Ашота же на работы не гнали, и целыми днями с утра до вечера он сидел в яме один.
«Надо сообщить родителям. Надо сообщить, — думал армянин без конца. — Они заплатят, должны заплатить».
— Ну, чего? Как там? — спрашивал он каждый вечер спустившихся в зиндан рабов.
— Никак. Вкалываем, — коротко отвечал Станислав.
— А эти чего? — под словом «эти» Ашот подразумевал чеченцев.
— Ничего. Бьют нехило.
— Про меня ничего не говорят?
— Говорят, — и солдат, глянув на него исподлобья, продолжил. — Весна, мол, на дворе, вот запряжём завтра этого жирного в плуг и пахать на нём будем. А станет плохо тянуть — уши отрежем.
— Чё, в натуре так говорят? — в голосе армянина сквозил страх.
Станислав глядел на него вначале серьёзно, хмуро. Но потом усмехался невесело:
— Да расслабься, пошутил я, — и хлопал его пятернёй по плечу.
Но Ашот не успокаивался. С каждым днём смятение его росло. Хозяева молчали и про выкуп ничего не говорили. Никто не требовал от него написать письмо домой или жалобно прорыдать в камеру: «Пожалуйста, заберите меня отсюда. Сделайте всё, что они хотят. Пожалуйста».
Однажды утром, когда Гаджимурад опускал им в яму еду, он заикнулся робко:
— А это, вы… в Город Ветров, моим родителям не звонили?
Но хозяйский сын с ругательством огрел его палкой по голове:
— Заткнись, свинья!
Ашоту страстно хотелось верить, что переговоры о выкупе с его родителями уже идут, и что уже скоро его должны отпустить. Но время шло, а чеченцы упорно молчали. Неделю спустя он совсем пал духом: а вдруг родители просто отказалась от него, не хотят платить?
И его бросало в ужас от такой мысли. Сидя на дне зиндана, он закрывал лицо руками и упирался головой в холодную каменную стену.
— Нет, нет, не может быть, — трясясь, бормотал он без конца. — Они заплатят. Заплатят.
Наконец, когда утром восьмого дня рабы, как всегда, разбрелись, звеня кандалами, по садаевскому подворью, Гаджимурад вернулся к зиндану и снова бросил лестницу вниз.
— Э, ты! Вылезай! Быстро!
Ашот, с трудом разгибая затёкшие ноги, полез наверх.
«Может, сейчас про деньги скажут?» — подумал он, и сердце забилось в тревоге.
Но едва только он вылез из ямы, как его сбили на землю сильным, хлёстким ударом ноги.
— Ты чё, сука, а?! Гоняешь, что ли! — и Гаджимурад врезал ему ещё раз, целя по почкам.
— А-а! А-а-а! — заверещал Ашот, прикрываясь руками.
— Э, ты, чёрт! Встал, резко! Пошёл!
Армянин вскочил и уставился на него со страхом.
— Баран, ты глухой, что ли? Я сказал — пошёл! — и Гаджимурад, схватив его за ворот и поддав ногой ещё раз, с силой толкнул к дому. — Пошёл, козёл!
Ашот обмер и, с трудом семеня одеревеневшими ногами, затрусил неловко, подгоняемый бранью и новыми ударами.
— Быстро, сука! Быстро!! — рычал Гаджимурад.
Ашот вбежал в дом и через мгновенье оказался в большой просторной комнате. Прямо перед ним, на широком мягком диване возлежал Султан. Его объемистый живот, прикрытый тонкой, едва не лопающейся на нём футболкой, шаром выкатывался из спортивных штанов. Колючие, хищно прищуренные глаза вглядывались пристально, цепко.