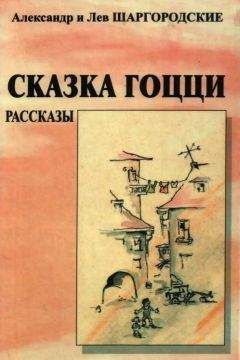— Ну, что я говорил, — улыбнулся Павлик, — а теперь отведайте…
Таможенник зло смотрел на него. Видимо, он не любил фаршированной рыбы.
— Выверните карманы! — сквозь зубы сказал он.
Павлик вывернул. На пол упали бутерброды.
Таможенник подозрительно смотрел на Павлика.
— В чем дело? — не понял Павлик. — Они с сыром. Вообще-то я люблю ' колбасой, с краковской, но я ее не достал. Вы же сами сказали, что мясокомбинат выпускает бомбы…
— Я, — взревел таможенник, — когда?!
— Когда мы говорили о Шапиро. И потом, если хотите знать, я и сыр достал по блату. Как инвалид войны! По-вашему, молочный комбинат изготовляет тоже что-то взрывоопасное?
— Если б не ваш возраст… — прошипел таможенник.
— О, если б не мой возраст… — печально вздохнул Павлик.
— Вы взгляните, во что вы завернули вашу снедь!!
— Во что? — удивился Павлик и ахнул — бутерброды были завернуты в портрет Ленина, выступающего на первом Съезде Советов.
После этого его отвели на личный досмотр.
Его обыскивали долго, рьяно, с пристрастием, рылись в седых волосах, просвечивали легкие, смотрели в рот, в горло, в трахеи.
Говорят, в трахеях можно многое спрятать…
Даже напоследок они обидели его.
Они не умели как следует попрощаться и не умели сказать «Не поминай лихом!»
Возможно, поэтому их так часто и поминают…
…Павлик и Кира шли по летному полю. Белый самолет стоял далеко. Постукивала палка Павлика. Кружились листья. Ветер раздувал белые волосы.
— Павлик, — сказала Кира, — у тебя совершенно голая шея.
И закутала его шарфом…
ПОЛЕТ ИСТОРИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
— Человек может стать всем, — сказал он, — даже евреем!..
Была ночь, и звезды стояли в ночи. Бледный свет окутывал Неву, разведенный мост и неприкрытую лысину великого вождя. Вождь стоял на гранитном броневике, задом к вокзалу, из которого торопливо вышел всего шестьдесят лет назад, с кепочкой в кармане и выброшенной на запад рукой…
Скажите мне, кто не спит ночью?
Только очень счастливые и очень несчастные ночью не спят. И кто ждет разрешения на выезд.
И еще не спят каналы и облака. И памятники…
Не спится великим людям России. Вот уже третий век не дремлет на своем коне великий Петр. Каждую ночь он грозит шведам и думает о своем окне в Европу, которое он с таким трудом прорубил и которое полностью заложили, не оставив даже форточки…
Не смыкает своего единственного глаза полководец Кутузов, еженощно сравнивающий историческое Бородинское сражение с блистательной Шестидневной войной, а себя — с генералом Даяном. Почему его называют Великим?! Разве смог бы этот одноглазый еврей победить Наполеона? В то время бы, как он, Михаил Илларионович, разбил бы этих сарацинов на Синае за какие-нибудь несколько часов, превратив шестидневную войну в семичасовую. Причем, без перерыва на обед…
Окаменевший Пушкин грезит ночами о прекрасных дамах, которые приходят к нему днем, приносят цветы и читают ему его стихи. О, как бы он их отблагодарил, если б только мог слезть с пьедестала…
Он вздыхает, сочиняет стихотворение и с нетерпением ждет утра.
Вереницей проходят в голове пятиметрового Гоголя прохожие, пробегавшие мимо него днем. Ба — знакомые все лица! Вот адмирал Собакевич, вот секретарь райкома товарищ Манилов, директриса школы Коробочка, маститый писатель, лауреат государственных премий Чичиков, а вот в черной «Волге», за шторочкой, сам городничий. А сколько Хлестаковых! И все живы, целы и невредимы!
А он?..
Николай Васильевич одергивает шинель и не понять — смеется он или плачет… И вот, когда, наконец, смолкают цари, замолкают классики и полководцы, над городом начинают переговариваться и перекликаться Владимиры Ильичи.
На площадях и в скверах, на набережных и в переулках, в парках и во дворах, с кепочкой и без, с вытянутой рукой и с заложенной за жилетку, лукавый и всезнающий, на постаменте или броневике — не спит великий вождь! Вот он, чугунный, с метровым лбом, размышляет о величии своей революции и тут же, за углом, каменный, из мелкозернистого карельского гранита, клянет себя за это.
Владимиры Ильичи жарко спорят, дискутируют и даже иногда ругаются между собой.
— Ну что же вы наделали, батенька, — тихо укоряет тот, что с кепочкой, — теперь-то вы, надеюсь, видите, что натворили?
— Послушайте, Владимир Ильич, — отвечает ему Ленин с Петроградской, — оставьте меня в покое, хотя бы на одну ночь. Вот уже сорок лет, как вы мне не даете дышать! Я хочу спать. Спросите обо всем этом лучше у Владимира Ильича с Выборгской. Спросите его, зачем он создал эту самую партию!
— Я создал?! — грозно доносится с Выборгской. — Извините! Это вы создали! А я любил Бетховена и брата!
— Зачем же вы тогда нацелили на вооруженное восстание? — пискливо спрашивает вождь с Васильевского. — Зачем?..
— Вранье и ложь. Я жил в Женеве! Я пил «Божоле»! Зачем мне было нацеливать?
— Он жил в Женеве, — усмехается в бороденку Владимир Ильич о завода имени Владимира Ильича. — Я жил в Париже! Я любил! Я в гробу видел вашу революцию!
— Оппортунист, — кричит с метровым лбом, — и проститутка. Вы хуже Троцкого! Вы извратили истинный ленинизм. Вы забыли заветы Ильича!
— Нет, батенька, это вы забыли мои заветы! А я строил светлое будущее!
— Хорошенькое светлое, — хихикает с бороденкой, — у всего мира темно в глазах!..
— Прекратите контрреволюцию! — гремит с броневика. — А не то я приглашу Феликса Эдмундовича! Феликс Эдмундович, разберитесь пожалуйста!..
На гранитном барельефе старого дома на Гороховой просыпается Железный Феликс. Он недовольно трясет своей козлиной бородой, и все Владимиры Ильичи моментально замолкают!
Да, не спят ночью великие и не спят простые.
И еще, кто ждет. И кому уже нечего ждать…
— …Только не я, — ответила она, — мне еврейкой не стать никогда…
Из их окна был виден Финляндский вокзал, холодные звезды, правое плечо и вытянутая рука вождя, на которой медленно таял падавший снег. Может, рука хранила еще тепло?..
Иногда, бесконечными ночами Саше казалось, что Ильич сгибает протянутую руку, подносит ее к затылку, тяжело вздыхает и долго, задумчиво чешет его… Пару раз Саша даже выскакивал в одной пижаме, сломя голову несся через площадь — но длань вождя всегда оказывалась на месте и ни тени сомнения не было на гениальном челе его.
Стоя ночами у окна, он часто думал, почему великий вождь выбросил руку именно на запад. Правая ленинская рука не давала ему покоя.
В детстве он был уверен, что дедушка Ленин просто грозит этой рукой всем врагам, которые хотели развязать войну, и какая-то безоблачность и покой охватывали его. Потом ему начало казаться, что рука не столько грозит, сколько просит. Он только точно не знал чего — помощи, зерна, совета?
И вот, совсем недавно он понял, что она не просит и не грозит. Рука — указывает. Верный путь и правильную дорогу. И указывает — на Запад!..
Катя и Саша часто не спали по ночам. Во-первых, они были счастливы — они любили друг друга.
Во-вторых, они были несчастливы — Саша и Катя были интеллигенты. Поднимите руку, кто видел счастливого интеллигента. Да еще в городе трех революций. Да еще вблизи такого памятника! И чуть дальше от другого — с железной козлиной бородой.
Да, интеллигент может быть умным, веселым, пьяным, фрондером, конформистом, трусливым, смелым, честным, но счастливым?! Одно из двух — или вы интеллигент, или вы счастливый! И опустите руку, товарищ.
А в-третьих, в-третьих сегодня они ждали взрыва — через несколько часов должен был взлететь на воздух Финляндский вокзал.
Взрыв предполагался фигурный, поскольку в воздух должен был взлететь весь вокзал, кроме выхода. Выход имел две массивные двери, и вот из одной из них, исторической, в свое время и вышел, прибыв из Финляндии, великий вождь, с апрельскими тезисами под мышкой.
Вокзал бы взорвали давно, но никто толком не знал, из каких именно дверей вышел Владимир Ильич, и поэтому было неясно, какие двери исторические, какие взрывать, а какие оставить.
Не было, к сожалению, свидетелей того исторического выхода — одних расстреляли, других сослали, в тезисах об этом тоже не было ни слова, а сам виновник влез на броневик и навсегда окаменел.
В принципе, по вопросу исторического выхода существовали две научные, сугубо полярные теории. Московская школа утверждала, что вождь покинул вокзал через левую дверь, а ленинградская — что через правую. Борьба была ожесточенной, велась десятилетиями и, наконец, привела к тому, что пятнадцать ее участников обвинили в правом уклоне, двадцать — в левом, по расположению дверей, тех, кто помалкивал — в центризме, всех вместе объявили врагами народа, сослали на Колыму, где, как утверждали, они продолжали свои непримиримые дискуссии.