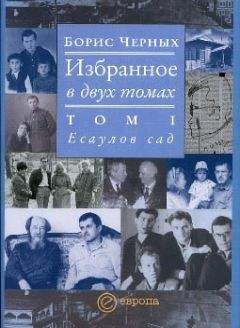Протиснулись к дальним рядам. Батяня головой отчаянно крутанул. Говорит, штаны намереваюсь тебе купить, с кожаным ремешком. У меня опять екнуло. Мы поденно носили шаровары на резинке, и то ближе к холодам. Летом шмыгали в трусиках. Батяня выбрал хлопчатые штаны, на вырост. Внутренние карманы глубокие, фунт семечек вместят. Еще батяня купил ситца, для сестриц, сестриц у меня скопилось тогда пятеро, а шестой маманя ходила.
Отвязали Рыжика, дробовик прощупали, на месте. А батяня виновато выдавил: «Мамку забыли. Надо и мамке че купить». Мы вернулись, батяня колечко бирюзовое у старухи подешевше выпросил. То колечко теперь сносилось, остатки его я берегу за иконой. Свет дадут, покажу вам. Вишь, мамка на память оставила, в могилу не понесла.
С покупками подались к Есаулу, на открытой веранде отметили событие. Я смял котлету с рисом, компотом запил. Батяне же поднесли стопу светлой водки, он взял на грудь, крякнул, запалил, но не самокрутку, а папироску. С дымящей папироской взгромоздились, опять пощупали дробовик, на месте. От время стояло! У Джелуни скупнулся я, а батяня прилег в телеге, задремал. Солнце косое, жара сошла.
Я понужал Рыжика жалеючи. Он и сам стремился домой. Прибыли к вечеру, сестры выскочили во двор. Батяня одарил, сестры целовали его. А мамка спрашивает: «Всех наделил, а себя?» – «А себе, прости маманя, слабость, купил пачку пахучих папирос, смотри, казак чрез долину скачет». «Да ты мигом спалишь их, то разве подарок, папиросы с казаком» – «Половину спалю, ребят угощу, а остальное на рождество Христово спрячу».
Все рассмеялись. Нашел чем отметить Христово рождение. Но диво. Эт уж когда я на волчьей упряжке прибыл с чужбины, в аккурат пред великим праздником, у батяни хранились в красивой пачке еще три папиросы.
Под ночь, при свече, картошку с кисляком ели, батяня насупился, возложил руку на мое плечо и твердо сказал: «Гриша, завтра утром повезу я тебя в люди. Дальний дружок в Утино, Лексей, возьмет пастушить. Осенью обещает два куля овса и три пшеницы, может и ярочку прибавит. Прости нас, Гришуня. Да не боись. Лексей-то божеский человек.»
– Эх, батяня, – вздохнул тут рассказчик, – Лексей-то божеский человек, а жена его… впрочем, после скажу…
Но ответил я всем родным:
– Почто отдаете меня? Я и дома пастушить могу, че в Сосновке не пастушить?
– Дома, – вздохнула маманя, – никто не даст ни овса, ни пшеницы. Обеднела Сосновка, налогами душат, в колхоз загоняют.
– А Лексей ваш почему в Утино держится? Его не душат? Особая деревня, что ли?
– Дальнее село Утино. Но доберутся и до Утина. Руки у коммуняк загребущие.
Ту ночь я худо спал, раз вскричал, штаны с ремнем терял во сне. Утром ранехонько родители поднялись. Маманя погладила меня по голове:
– Девки слабые у нас, хворые. Мы с тятей из сил выбиваемся. Потерпи до осени, миленький. По осени урожай будет, и ты прибыток привезешь.
Опять мы ружье под спину – и айда. В дороге пощипали краюху хлеба, молочка попили. К обеду прибыли в Утино. Село широкое, на берегу Перы. Дома крепкие, столыпинские, из круглого листвяка. Мальчишки в штанах, я позавидовал им. Батяня на пастушество не дал брючата, приберег на зиму.
С крыльца спускается дядька Лексей, в разлетайке, цвет по вороту. В Утино украинцев много тогда жило, переселенцев.
– Ого-го, – закричал дядя Лексей. – Работничка привез. Повернись, Гриша. Гарный хлопец. А мне, Дементий, Бог отказывает в милости, не дает детишек.
– Да еще пошлет, Лексей, – успокаивает батяня.
– Поздно. Силы бабьи кончились у Клавдии. Ну, хоть Гриша до осени в сынках походит. И то спасибо.
Тут явилась тетка Клавдия. Квелая, заметил я, шея течет на толстые плечи, живот из фартука выпадает. Глянула махонькими глазками, тусклые угольки. Она мне и «здравствуй» не сказала.
Почаевничали, подымили у ворот. Батяня чуть прижал меня ко груди:
– Не отчаивайся, Гриша. Ты выручишь нас, – стиснул ладошку сильной дланью, забрался в телегу и подался, но оглянулся, махнул рукой.
Остался я в чужих людях.
У дядьки Лексея имелось три коровы, телята, стадо овец, свиньи и уток море. На заимке десятин двадцать земли. Как он успевает везде, думал я вначале. Оказалось, на заимке брательник младший с женой пашет с зари до зари.
Определили меня в пойму Перы гонять скотину, там травы сочные. Но и оводы в пойме злые, что осы. Одно спасенье – упасть в Перу. Но овцы разбредаются, им река не в радость. Побегал я за ними, боялся упустить. Но скоро уловил – стадо они все же блюдут, далеко не уходят.
Давали мне на день лафтак соленого сала, сухарей, простокваши. Я прихватывал десяток картошек, чтоб в костре подпалить. Но в июле сало кончилось, начал я подголадывать, а пожаловаться дяде Лексею стесняюсь. Картошка не спасала, шаровары стал на веревочке держать. Но скоро заметил, куда тетка Клавдия кринки со сметаной на ночь ставит, научился прокрадываться к полке. Слой отопью, в животе полегчает. И так до конца лета и по осени охотился. Но не все коту масленица. Сейчас начнется окаянная история, над которой вы посмеетесь, а я наплакался тогда. В ноябре трава окончательно пожухла, я намекать стал дяде Лексею, что пора бы меня домой спровадить, но он все тянет. Глухой ночью опять полез я за сметаной к полку. В последний раз полакомлюсь, думаю. Завтра непеременно домой проситься стану. А у лавки нога моя надломилась. Полетел я с кринкой сметаны до полу, но по дороге опрокинул сметану на спящую тетку, она ить догадалась ставить в головах сметану, жадюга. Тетка возопила, густая сметана глаза смежила ей, разлепить не может, по хате бегает в потемках. Я на печи затаился, да куда уж там, все ясно. Дядя Лексей лучину зажег. «Слезай с печи», – велит. Слезаю. «Накажи его плетью», – шипит Клавдия. «Пойдем на улицу». Идем. Заводит в овчарню, полушубок на стожок бросает: «До утра кемарь, утром разберусь, че делать с тобой», я прилег было, смех разбирает, и горе рядом. Что сдеется со мной?!
Вдруг лапоточки по настилу – топ-топ. Меня жаром обдало. Черти, не иначе. Господи, спаси мою душу отроческу. А чертики подползают, дуновенье слышу на затылке. Я пощупал машинально, есть ли че под рукой. Полено! В кромешной темноте приловчился я, да как вдарю, по-мягкому. Черти они ведь из мяса, не только из рогов. Замер. Ложиться не могу, щекотать начнут – до смерти защекочут. У нас в Сосновке этак довели до смерти Костю Савельева, он выпивал, конечно, но нашли его тверезого и отошедшего уже. Черти, они беспощадные. Опять лапоточки пошли. Боженька, не выдай одинокого мальчонку! Прицелился на звук и достал по хребтине. Затаился. Надо потерпеть до утреннего света. Черти боятся дневного солнца, это я уж знал.
Когда третий чертенок подкрался, в отчаянии стал я лупить, но все мимо, а он тычится противной волосатой мордой в руки, нюхает и норовит что-то просипеть. Добил и этого. И здесь, ребята, силы мои кончились. Я упал на солому и потерял сознание, очнулся – в малое оконце стреляет ранний луч. Я пригляделся. Ой, горе, горе! Оказывается, трех ягняточек положил я наповал. Они ж крохотные, робкие, я и сломил им жизнь. Что делать? Бежать! Немедля бежать! Дверь пощупал, куда там, на лом заперта снаружи. Тогда перекрестился я, выхлестнул поленом оконце, выцарапался, порезал об стекло руку Но, чую, на воле. Народу ни души в улице, хотя дымки из труб стоймя стоят. Морозное утро, но со снегом. Побежал. У крайнего дома лошадь с розвальнями, и кнут в санях. Я осатанело отвязываю, прыг в сани и наметом, наметом. Чую, погоня наладится, успею уйти. Влетел в Совиный Угор, там сплошь хвойный лес, прямая дорога домой. Милый тятя, пороть станешь меня, не зареву. Виноват, милый тятя, кругом виноват. Что единственным уродился у тебя, что сестры у меня хворые. И налогами душат нас. Я, я во всем виноват. Но больше из Сосновки нашей ни шагу. С голоду помру, но в Сосновке…
Летел я сломя голову. Совы ухают, по всему скоро наше село. Но из чащобы вой раздался. Волчья стая! От волков не уйдешь, почему батяня всегда, даже летом, ружье кладет в сено, с крупным зарядом. А у меня кнут, правда, со свинцом на конце. Но что волкам свинец на ремне. Понужнул я конька, он и так загребает воздух копытами. Но волки уже рядом. Вожак матерый норовит прыгнуть на спину коньку. Я кнутом ожарил вожака, он оскалил пасть и снова как маханул на хребет. Я и заплакал. Конец и коньку, и мне конец. Сел в сани, прощаюсь с белым светом…
Тут слушатели Гришунины вскричали неистово:
– Не томи, дед Гришуня, говори, как живой остался!? Ты ить живой остался? Или нету тебя?!
А Гришуня запалил самокрутку, помолчал, примаривая соседей, дровец подкинул в печурку, и погодя сказал:
– Свыше было решено оставить мне жизнь. Там, на лесной дороге события развивались как в мериканском кино! Убийство лошади насытило шайку. Я сопли размазал в санях, бежать некуда, погибать надо, все равно замерзну. А те утробно и сыто урчат, добирают конька бедного. С отчаянья поднялся я в рост, да свинчаткой в лоб вожаку, да второму, по хребтине. Волки вскочили. А поскольку кнут ходит от меня к ним, они решили драпануть вперед, но там хомут. Три волчары попали в хомут, оглобли взняли. Я кнутом стегаю, себе не даю от страху опомниться, а они, сволочи сытые, не догадаются тормознуть да выйти из хомута. И скоро пошли дома. Сосновка! Народ на улице! Дивуются в ознобе. Твой дед, Вася, Никонор-то, обратился Гришуня к молодому парню, тот слушал Гришуню, затая дыхание, – первый сообразил чрезвычайное событие, выдрал кол из прясла, да ко мне, а волки запалили себя и в отчаянии легли. Тут набежали сосновские лаечки. Куликовская битва началась. Но я успел вожака на уздечке в сарай запереть. От приятелев же его клочка шерсти не осталось. Доложили батяне. Он пришел, смурно смотрел на меня. Я покаялся во всех смертных грехах. Он норовил колотнуть меня, но деревенские заступились: