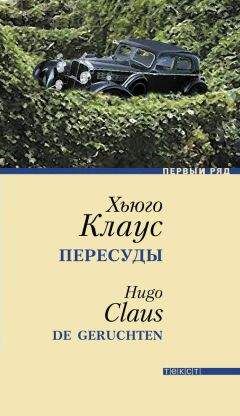— Жалко, у тебя нет телефона.
— О чем говорить? Все кончилось.
— Если можешь кому-то излить тоску, быстрее проходит, — говорит.
— Говорят. Я буду о тебе думать чаще, чем раньше.
— Не надо. — Она отпускает мою руку.
— Ты идешь прямо к Сержу. Выйдешь за Сержа.
Мне нельзя злиться, но едва я выговорил это имя, кровь бросилась мне в голову.
— Возможно, — говорит.
Мне нельзя это говорить, но я все равно говорю:
— Он не умеет петь.
Она смотрит мимо меня, на пикирующих ласточек.
— Если он женится, ему можно будет тебе впендюривать.
— Молчи.
И я говорю то, что не хочу сказать:
— Я этого не заслужил.
Почему я сказал это? Кто теперь имеет, что он заслужил? Мама, которая кашляет до блевоты, а отец рядом дымит и дымит, ни разу не кашлянув?
Хочу уйти. В лес. Бежать до санатория. Но я сажусь в траву. Она сидит рядом. Тычет указательным пальцем мне в живот.
— Почему тобой все помыкают? — говорит. — Я перенести не могу, что ты позволяешь другим собой распоряжаться.
Женщины вечно все переворачивают, бессовестные, с детства начинают.
— А ты?
— Я подчиняюсь, отдаюсь, когда мне нравится. Но тебе не может это нравиться. Ты не должен подчиняться.
Она улыбается, кажется, ей больно.
— Я отдамся, — говорит. — Тебе. Смотри.
Поднимает платье. На ней сиреневые кружевные трусики, с обеих сторон из-под кружев выглядывают каштановые кудряшки. Она спускает трусики, стаскивает совсем, бросает на траву. Рыбак на другой стороне смотрит на нас.
— Ему нас не видно, — говорит.
— А вдруг у него бинокль?
Она падает на траву, задирает платье до подмышек, снимает белый-пребелый лифчик. Кладет на траву, стаскивает платье через голову. Вытягивается. Мы уже так делали раньше, я помню, я трогаю губами соски, глажу бедра, но ей хочется другого, сбрасывает мою руку, встает в траве на коленки, опирается на локти. Трусики засовывает себе меж ног, внутрь.
— Иди сюда, — говорит.
Я придвигаюсь, она берет, и тянет, и вкладывает между ягодиц.
— Никому никогда не позволяла этого, — говорит. — Только тебе, мой Ноэль.
Лицом утыкается в платье. Руки отводит назад, раздвигает пошире.
— Сюда, — говорит, голос заглушен платьем. — Сюда и больше никуда.
Я не должен подчиняться. Я жду. Правая рука Юлии нащупывает, он напрягается, она подталкивает внутрь.
— Не перепутай дырочки, — говорит.
Я нажимаю в серединку «звездочки». Никак не могу протолкнуться, никак. Юлия вздыхает. Оттого что она вздыхает, оттого что рыбак продолжает на нас пялиться, оттого что я чувствую себя неловким мудаком, оттого что на этой белоснежной плоти уже видны первые признаки целлюлита, о котором болтают дамы в парикмахерской, и оттого, что я хочу сказать Юлии, что эту «апельсиновую корку» можно разгладить, я прорываюсь внутрь, испытывая сладость победы, меж белых полусфер, которые Юлия развела для меня руками.
— Да, — выдыхает она и делает резкое движение мне навстречу упираясь мне в живот, и я начинаю считать ее «да» и сбиваюсь со счета, но легонько покусываю зубами ее шею, но ласкаю то, что прячется в каштановых кудряшках, и наконец падаю без сил ей на спину.
— Лежи, — приказывает, точно ее мамаша, закрываю глаза. Она поет «Petit Papa Noël»[73], прямо в ухо. — Лежи, — говорит. — Это наш последний раз. Молчи!
Я подчиняюсь. Я счастлив, и я знаю это.
— Что за польза от президента, о котором все знают что он кровавый тиран, снабжающий полицию тысячами дубинок, которые подводят электрический ток в 150 000 вольт к тестикулам заключенного. И наше правительство знает это.
Кто обучает специально подобранные президентом войска обращаться с электрическими средствами защиты? И наше правительство знает это.
Перед вами Учитель Арсен, гарцующий посреди «Глухаря» на любимой игрушечной лошадке прав человека. Никто не слушает. Нам показалось, что Лайпе Нитье впал в кому.
— Кома, кома — легко сказать. Какая стадия, вот что важно! У комы гораздо больше стадий, чем ты думаешь.
— Учитель, Учитель, вы и медицину можете нам преподать?
— Сперва — говорит Учитель, всегда готовый поделиться избытком знаний с ближними, и его толстую рожу озаряет вдохновение. — Сперва стадия, близкая ко сну, сменяется потерей сознания. Исчезновение рефлексов, отсутствие реакций.
Толстые щеки, меж которых свободно болтается язык, немереная дурость, глядящая сквозь толстые стекла очков, широкий морщинистый лоб, мешки под глазами.
— При вегетативном состоянии отдельные части тела больного могут двигаться, хотя человек пребывает в забытьи. Он может строить какие угодно рожи — почему бы и нет? — но ничего не замечает вокруг себя, и, может быть, это даже хорошо. Потом наступает то, что мы называем «синдромом запертого человека», которым страдает Лайпе Нитье, он не может говорить, но ментально реагирует и способен к коммуникации движением своих глаз. Теперь ты.
Лайпе Нитье сел, потом лег — могу поклясться. С головы до ног. Его битва со смертью продолжалась дольше, чем у любого из жителей Алегема. Кожа казалась пересохшей. Потом он вышел из комы и сказал, что едва не умер, да так оно и было.
Я ждал, держа наготове полотенце, свежее, из шкафа. Доктор Вермёлен мыл руки под краном. Странно, ведь он даже не прикоснулся к Рене. Потом выпил несколько рюмок геневера. Доктор торжественно заявил властям, что Рене не в состоянии участвовать в следствии, мама готова его расцеловать. Он заявил господам стряпчим с папками, полными документов, что Рене страдает от последствий контакта с содержащим арсеникум ползучим растением, вызывающим рак. Я не такой дурак, чтобы это забыть, но кое-что все-таки пропускаю, хотя стараюсь изо всех сил, до боли в затылке. Не то чтоб я все понимал, но я должен, по крайней мере, запоминать звуки, пока они не растворились в воздухе.
Высокое напряжение нейронов, электрическое напряжение скрытых воспоминаний в нашей пыльной лавке. Что-то в этом роде.
Между тем на лице Рене появляется маска смерти. Я сижу рядом с его кроватью. Мне хочется, чтобы Бог позволил мне умереть вместо Рене. Я хотел бы, чтобы Бог пересоздал меня ради шутки. Но Бог ничего не делает ради шутки. Он тоже должен подчиняться. Не спрашивай меня кому. У Бога было время подумать, когда Он позволил мне разбиться, наверное, Он где-то схалтурил, ведь вторая версия Ноэля Катрайссе оказалась не слишком удачной.
Дыхание Рене ускоряется, я слышу странные звуки, хрип.
— Отходит, — шепчу я. — Мама, он отходит.
— Куда? — спрашивает она громко.
— Этого никто не знает.
— К снежным чудовищам, — говорит она.
Отец почему-то начинает орать, что сейчас не время нести чушь.
— В такой момент, черт бы вас всех побрал!
Доктор Вермёлен говорит, мы должны ему сто восемьдесят франков.
— Меньше, чем в прошлый раз, — говорит мама.
— Но я и делал гораздо меньше.
— Вы еще придете? — спрашивает отец.
— Возможно. Мне пора. Смотрите, чтобы он не простудился. Если даже ему станет жарко, не давайте ему раскрываться.
Хорошо, что Рене этого не слышит, он не переносит жары. Ни экваториальной, ни даже от нашей печки.
— Я должен идти. К Хендриксену, у него корова все время блюет и кусает других коров за вымя. Интересный случай. Потом — к Фредье Делуа, подхватил корь в сорок четыре года. Потом — в инспекцию городского контроля. Мы, доктора, обязаны сообщать о серьезных случаях, но я могу сообщить только о многоуровневой инфекции.
Потом он осматривает маму, отдельно, у нее в комнате, и она возвращается в кухню совершенно успокоенной. Доктор Вермёлен удаляется, мама ставит на стол кровяную колбасу и яблочный мусс, но со мной что-то не так, вы давно знаете, что со мной что-то не так, но в этот раз другое «не так»: мне совсем не хочется есть, хотя я обожаю кровяную колбасу, особенно с изюмом.
— Что думает доктор о полосках у него на спине?
Мама говорит:
— Это пройдет. Что-то с селезенкой, разрыв, что ли, вызвавший кровотечение, ничего серьезного.
Врет. Это правда, без селезенки можно спокойно дожить до самой смерти. Но все равно она врет. Она может.
— А тебе он что сказал?
— Ничего особенного, — говорит.
— Врешь.
— Тебе не нравится кровяная колбаса? Ты совсем не ешь!
Она прижимает ладони к глазам, словно пытаясь остановить слезы, и стонет:
— Я заслужила наказание, но почему оно настигло меня через моего ребенка?
— Альма, — отец говорит. — Прекрати, пожалуйста.
— Да, мама. Пожалуйста.
— Я сняла все деньги с банковского счета.
— Все? — спрашивает отец.
— Я должна лечь в больницу в Варегеме, — говорит. — У меня нет другого выхода. У нас ничего не осталось. Ни одной бутылки не продано. И монашки больше не берут у меня вязания. Я несколько недель потратила, а сестра Клара и говорит: «Я бы взяла, да матушка настоятельница не позволяет». Потому что сестры из их ордена были изнасилованы и убиты белыми в форме наемников, и она уверена, что среди них был наш Рене.