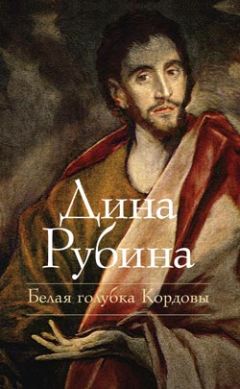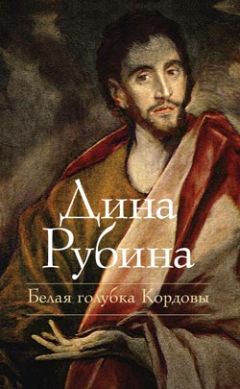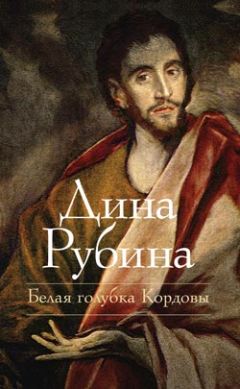– Саккариас… можьно будем немножько говорьить русски?
– Да пошел ты, – отозвался добродушно Кордовин, на русский не переходя. – Я здесь использую каждую минуту, чтобы нежить и ласкать мой испанский, не для того, чтобы дрессировать твой русский. Тренируйся на Тане.
– Как, ты не знаешь? – обиженно воскликнул Хавьер. – Таню уже полгода как перевели в Лондонский филиал Sotheby's. Мы из-за этого редко сейчас видимся, и мне, в общем, все это надоело…
Хавьер был сыном московского испанца по фамилии Ньето. Эта вполне обычная испанская фамилия ввергала его в бесконечные разбирательства с советскими чиновниками. – «Ньето», – отвечал он на вопрос чиновницы. – «Как это „нету“»? – сердилась та. – «Что значит – „нету“? Я спрашиваю: – какая ваша фамилия?», и испанец уныло и терпеливо повторял: «Ньето»… Тем не менее, увезенный из России мальчишкой в 72-м году, Хавьер вспоминал о родине с необычайной нежностью. В Испании его, московского мальчика, потрясло синее небо: пронзительно синее, без облаков. Они с отцом угодили сразу на Ферию, и отец никак не мог наговориться с друзьями. Те же только дивились странным словам, которые проскакивали в его речи: «форточка»… «люстра»… «булка»… Он произносил их по-русски, сам того не замечая. Недавно Хавьер обмолвился, что отец, много лет проработавший на заводе Лихачева, до сих пор называет его фабрика Сталин.
– Слушай, – оживился Хавьер, меняя тему. Он вообще был легким собеседником. – Говорят, Израиль – столица подделок русского авангарда? И там у вас какая-то мастерская, чуть ли не в Газе, где трудятся в поте лица рабы из России?
– В Газе? – Кордовин улыбнулся. Хорошая мысль: мастерская в секторе Газа, где уж точно никакие силы небесные, кроме аллаха и пророка его, тебя не достанут. – Не слышал. А с каких пор тебя интересует русский авангард и тем более подделки? Тебе что-то всучили?
– Да нет, просто Таня стонет и ругается. Говорит, практически каждый аукцион, каждые торги поставляют до двадцати процентов поддельных лотов русского искусства. Какие-нибудь Шишкин с Айвазовским стали сегодня сущим проклятием. С чего такой бум?
Кордовин усмехнулся, оторвал кусочек от ломтя белого хлеба на тарелке:
– Все с того же, Хавьер. С денег. Разбогатевшие россияне желают покупать только тех художников, которых помнят по учебнику «Родная речь» – не забыл еще такой? Ты ведь тоже по нему учился… А фокус в том, что в девятнадцатом и двадцатом веках русские художники после нашей академии учились в качестве пенсионеров в ихних академиях, и сидели в какой-нибудь дюссельдорфской или парижской школе рядом с западными художниками. Понимаешь? Учились вместе, и писали, в принципе, одинаково. Так к чему мучиться, писать картину, старить ее всякими немыслимыми способами, придумывать провенанс? Зачем нам весь этот геморрой? Покупаем на аукционе в Германии картинку соседа Шишкина по дюссельдорфской школе, и реставратор за весьма небольшую мзду убирает подпись немца и рисует тебе подпись Ивана нашего Ивановича. Дешево и сердито: материалы старые, леса-лесочки везде одинаковы, мишки бегают и носят бревнышки, сюжеты слизаны друг у друга (они ж за соседними мольбертами сидели, художники-то)… а живопись все одна и та же. Эксперт смотрит на уровень исполнения: стиль, время – все совпадает. А поскольку из русских художников самостоятельными были разве что Врубель и Филонов, то афера приобрела пугающие масштабы.
– Да, но речь-то уже не только о Шишкине-Айвазовском. Подделывают всех. А Филонова – что, не подделывают?
Кордовин усмехнулся, помедлил… отправил в рот кусочек хлеба, задумчиво прожевал.
– По поводу Филонова… – проговорил он. – Я вспоминаю благословенные девяностые, вернее, конец восьмидесятых. Авангард уже входил в моду и в цену, но никто еще не шастал по заграницам. Вездесущие европейские эксперты еще дремали в своих музеях. Почти все собрание Малевича было за границей, все специалисты по нему – за границей. Филонова же вообще никто не видел, можно сказать, никогда. А в Русском музее, в Питере была собрана большая коллекция Филонова – сестра подарила. Когда-то ей обещали персональную выставку художника, разумеется, обманули. Ну, и лежали работы в запасниках. Ты-то знаешь, – что такое запасник музея, да еще такого музея, как Русский? Это могильник.
Стеллажи, стеллажи, сотни метров стеллажей… Когда надо было место освободить – такое бывало, – сжигали работы, как книги в Средневековье жгли. Многое спасал Резвун, Федор Нилыч, директор по научке: вынимал из картотеки карточки работ, которым грозила опасность, расфасовывал папки по полкам, часть вещей отправлял в периферийные музеи… На папках с рисунками Филонова сидели девочки-сотрудницы музея. У каждой под попкой был свой Филонов. А технологическая экспертиза в начале девяностых существовала у нас только для старых мастеров. Резвун был чуть ли не первым из музейщиков, кто выехал тогда за рубеж… И вот ведут его по залам «Людвиг-музея», демонстрируя коллекции… и он утыкается носом в рисунки Филонова, которые – и он точно это знает, – в данный момент находятся в Русском музее. «Как?! – вскричал потрясенный Резвун. – Мне известно, кто сидит на этих рисунках! Я знаю попу, которая их греет!!!» В то же время он – недюжинный специалист – видит, что на этой конкретной немецкой стене висят-то как раз подлинники!
– Ке ва![14] – Хавьер слушал едва ли не с восхищением. – Ты хочешь сказать, что некто виртуозно скопировал пять рисунков, продав подлинники «Людвиг-музею»?
– Именно, чико[15], – Кордовин улыбнулся, взял вилку и вернулся к своим креветкам. Он испытывал некоторое удовольствие, пожалуй, даже чувственное удовольствие от этого опасного разговора; правда, о том, что разговор опасный, Хавьер – агнец и тюфяк – никогда не узнает. Он и в страшном сне не заподозрит – кто мог так скопировать Филонова, что многие годы о подмене в «Русском» не ведали не только попки пресловутых «сотрудниц», но и серьезные специалисты.
– Вот видишь, – Хавьер вздохнул, как ребенок, который дослушал интересную сказку, так и не выяснив – остался ли в живых главный герой. – А аукцион – тот ведь декларирует, что несет ответственность. Во всяком случае, если в течение пяти лет со дня продажи ты явишься с неопровержимыми доказательствами, что приобрел фальшивку…
– А что такое неопровержимые доказательства? – насмешливо перебил он Хавьера. – Мнения двух экспертов? Трех экспертов? Небольшого взвода экспертов?
– Да нет, конечно. Имеется в виду полная технологическая экспертиза…
– Которая стоит бешеных денег и, между нами говоря, отнюдь не бесспорна.
Напрасно они здесь развесили гирлянды этого копченого мяса. Запашок так и вьется, и кружит… А может, человеку даже и полагается пребывать в пещерной вони? Как только он начинает кропить свою жизнь дезодорантом и прочими воскурениями, над ним разверзается озоновая дыра: «я т-те покажу благоухание, падла!»
– На подделки, – лениво заметил Кордовин, – существует и другая точка зрения. В начале восьмидесятых у нас в академии один профессор, химик по образованию, читал реставраторам курс под названием «Фальсификация живописи». Ему, понимаешь, было плевать на этику и законность. Его генеральная идея заключалась вот в чем: Россия необъятна и глубока, все люди не могут приехать в Москву или Питер любоваться на подлинники. Так что не грех предоставить им возможность наслаждаться безупречными копиями.
Хавьер хмыкнул и отозвался:
– Любопытно. В этом что-то есть.
– Есть, есть, – кивнул Кордовин. – Только в деканате вдруг спохватились и профессора погнали поганой метлой. Он ведь учил и практическим вещам, понимаешь? Подвергать пигменты термическому воздействию, например. Это от него мы узнали, что существует лак, который вызывает кракелюр.
Ну, довольно, пора прекратить странный разговор. Достаточно ты наигрался с этой мышкой.
Минут через двадцать Хавьер заспешил, засобирался: надо послушать – что там еще выдумали умники про нашего бедного Грека…
– Ты не пойдешь? – спросил он, поднимаясь.
– Да нет, я сыт… погуляю. Слушай, Хавьер. Там у вас в Прадо, между прочим, висят рядом два небольших Веласкеса; оба – «Сады виллы Медичи», но разные пейзажи.
– И что? – Хавьер застрял зубочисткой в расщелине между передних зубов и с торчащей изо рта пикой глядел на него с комическим ужасом. – И что – это тоже подделки, Саккариас?
Ах ты, болван… Думаешь, в ваших великих музеях подделок меньше, чем на аукционах?
– Да нет, я вот о чем. Они отнесены к одному периоду, но я уверен, что это ошибка.
– Почему? – спросил Хавьер, блуждая взглядом по залу в поисках официанта, явно уже стремясь отсюда смыться. Ему надоедали долгие разговоры об искусстве. – Что тебе взбрендилось?