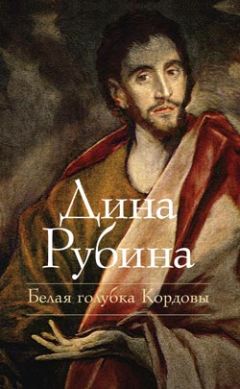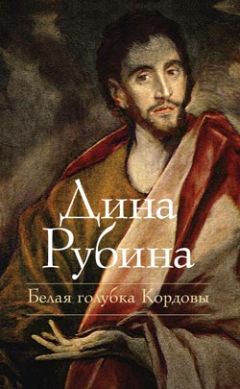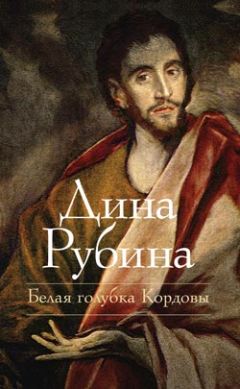И кофе здесь умели варить. Главное, делал это занимательный толстяк с усами, как у Сальвадора Дали (верно, и кафетерия называется «У Сальвадора»), – одетый в какой-то бравый потертый мундир явно исторического свойства. Надо сказать, все вокруг было затейливо: там и сям развешаны по стенам наряды старых времен – шляпка с вуалью, серый сюртук, треуголка, тросточка с набалдашником в виде отшлифованного ладонями черепа; зеленый атласный корсет с полуобломанными крючками и сетью бесконечно запутанных шнуров…
Из динамиков негромко доносилась музыка фламенко: отрывистое бормотание гитары, легкие дробные удары каблуков, хрипатые выкрики и заразительные хлопки…
На соседнем стуле он обнаружил забытый кем-то утренний номер «Эль-Пайс», листнул пару страниц… Скучный бездарный мир копошился, как обычно, издавая гнусную вонь на всю вселенную: очередное заседание Евросоюза… забастовка портовых рабочих по всей Франции… серийный маньяк в окрестностях Монако… Серьезные финансовые проблемы Ватикана. Бедные, бедные католики… что там у них? – постоянно сокращается паства, острая нехватка молодых священников, но главное – бюджет папского престола остается дефицитным… М-да, это прискорбно… А что б вам, братья, не продать одну из сотен картин, хранящихся в музеях Ватикана, дабы залатать финансовую прореху? Какого-нибудь Рафаэля или Джотто?.. Ага, вот и ответ: «По словам кардинала Клаудио Челли, 63-летнего секретаря Администрации по делам наследия святого престола, итальянское правительство никогда не даст разрешения на экспорт даже одной из сотен картин, хранящихся в музеях Ватикана. „Ситуация парадоксальная: так много великих произведений искусства и так мало оборотных средств, – жалуется монсеньор Челли. – Но чем можно измерить ценность „Пьеты“ Микеланджело?“»
Вы правы, монсеньор, – ничем.
Затем он наткнулся на забавный материал, перепечатанный, видимо, из какой-то британской газеты. Все по теме, опять подумал он, с чего бы это. Он всегда с удовольствием следовал предложенными судьбой тропинками, которые выводили к самым неожиданным совпадениям и сюрпризам. У него бывали целые периоды в жизни, когда день за днем узор одного обстоятельства так точно вплетался в узор другого, что оставалось лишь простодушно следовать этой высокой игре, не противясь.
В статье – собственно, это была не статья, а коротенькая заметка, – писали, что в Великобритании наблюдается беспрецедентный наплыв подделок произведений российской живописи. «По словам Уильяма Ричардса, главы отдела Скотланд-Ярда по раскрытию преступлений в области искусства и антиквариата, преступники работают на рынок, рекордные масштабы которого определяются российскими коллекционерами-миллиардерами… Только в прошлом году торги на аукционах Sotheby's и Christie's принесли более 320 миллионов долларов по сравнению с 16-ю миллионами всего 7 лет назад. Некоторые подделки выполнены настолько качественно, что распознать их можно только с помощью научного анализа. Для противодействия проблеме подделок Уильям Ричарде создал организацию Art Management Group. Среди ведущих специалистов этой группы – ученый Оксфордского университета Бернард Грин. Проводимый им на микроскопическом уровне анализ может показать, была ли поставлена подпись значительно позже создания картины ХГХ века – в таком случае, она нанесена поверх кракелюра, – трещин, сформированных по мере старения картины; и были ли использованы краски, которых при жизни художника еще не существовало. „Это своего рода гонка вооружений, – заявил Уильям Ричарде. – В свете все большего мастерства подделывателей мы тоже должны становиться все более продвинутыми“».
Становитесь, братцы, становитесь. Давно пора вам хотя бы чему-нибудь научиться. Но неужели вы полагаете, что я стану наносить подпись поверх кракелюра, а не размягчу предварительно старый красочный слой компрессом, например, с димексидом? Для того чтобы симпатичному парню Уильяму удалось схватить меня за яйца? Или вы думаете, что на факультете естественных наук Стокгольмского университета меня учили химии хуже, чем того же милейшего Бернарда Грина – в Оксфорде?
Он закрыл и отодвинул газету. Снаружи опять зарядил дождь… Дружная пляска в динамиках сменилась еще более зажигательной, в середине которой какой-то виртуоз-байлаор[16] вытворял каблуками, стопами и носками туфель такую симфоническую канонаду, что после этого сапатеадо[17] грянули нескончаемые овации невидимых слушателей.
За те минут сорок, что он здесь сидел, несколько стаек молодняка успели огомонить и расцветить молодым щебетом комнату, за одним из столиков затеяли даже громогласный спор, кто-то выиграл, побежденная отказывалась платить проигрыш поцелуем… Наконец убрались, слава богу. Делать было абсолютно нечего, вернее, сегодняшний день оставлял две возможности: вернуться на конференцию (заодно и покормят) или плюнуть на все и пойти допивать вторую бутылку в уютный номер. Он склонялся ко второму варианту, хотя в кулуарах конференции надо было бы еще кое с кем потолковать…
Когда, расплатившись, он поднялся, выяснилось, что в первую очередь следует навестить здешний cepвисиос[18] – на предмет детального ознакомления с тамошним дизайном.
Он молча, сквозь музыку изменчивого дробота фламенко изобразил руками нечто танцевальное в районе ширинки, хозяин улыбнулся в свои залихватские усы и кивнул через плечо в сторону коридора.
Тот вел в небольшой закуток с двумя дверьми: полупрозрачной кухонной – прямо, и дверью в туалет – направо. Приветствую вас, блаженный дон Servicios!
Ну что ж, и здесь уютно и толково, и все на месте. Даже и музыку сюда транслируют.
Что может быть на свете милосерднее и благочестивее удобного и благоуханного туалета – для человека, выросшего в миазмах винницкого дворового нужника?
Да, пожалуй, так: вернуться в отель, вылакать оставшуюся бутылку и опуститься на дно роскошной крупномасштабной кровати в полном одиночестве…
На мгновение умолкли топот и хлопки фламенко и зазвучал летящий, плачущий голос Исабель Пантохи. «Buenos dias tristeza», – пела она, – «Здравствуй, грусть! Скажи, знаешь ли ты счастливых людей? Тогда поведай мне, как их зовут, расскажи мне о них… Только не говори о любви…»
Ему нравилась эта песня. Дома, в Иерусалиме, он часто ставил в машине диск с песнями Пантохи, они не надоедали. У нее был голос обожженной жизнью женщины: ее мужа, известного тореадора Пакирри, через год после свадьбы убил на арене бык.
Выйдя из туалета в коридор, он сделал непроизвольный шаг назад, при этом ударившись спиной о дверь, еще не полностью закрывшуюся. В стенной неглубокой нише он увидел то, чего не мог видеть, устремляясь в сервисиос. Там висела картина.
Подумав, что обознался в полутьме, он шагнул к ней, протянул руку и ладонью заскользил по холсту. Нет, не обознался! Есть еще порох в пороховницах… Ладонь опять потянулась к картине, пальцы жадно вибрировали: так умирающий от жажды тянется губами к лужице воды на дне иссохшего ручья.
Да – старая, очень старая картина: обвисший холст, местами утраченный красочный слой и… черт, свету мне, свету!!!
«Здравствуй, грусть! Скажи, думает ли кто-нибудь обо мне? Тогда поведай мне о нем. Только не говори о любви…»
Только не сходи с ума, дон Саккариас. Что это? Какой-то святой, монах, каноник? Совершенно эль-грековский пошиб, вполне по теме, так сказать, нашей конференции: бескровное удлиненное лицо, черная сутана… посох в левой руке… правая протянута к зрителю типичным жестом с картин толедского мастера – полураскрытой ладонью. В мастерской Эль Греко такие изготовлялись десятками, он же был великий халтурщик, наш славный византийский грек Доминикос. Заказчикам демонстрировали сотни маленьких образцов – выбирай, генацвале, на что ляжет глаз. Может ли быть, чтобы…
Стоп!
Он вернулся в туалет, ополоснул водой из холодного крана горящее лицо, постоял перед зеркалом, внимательно вглядываясь в трепетание крыльев носа… Ну, с богом!
Выйдя в зальчик, направился к выходу, приветливо махнув рукой усачу на прощание, но в дверях остановился. Покачал головой, глядя, как дождь лупит по крупной, тесно притертой одна к другой бурой гальке мостовой.
– Нет! – проговорил вслух сокрушенно. – Видно, не пора мне вас покинуть. Еще чашечку вашего отличного кофе, а?
В ответ из динамиков грянуло виртуозное гитарное вступление: радостно распахнутая алегриа…
– И правильно! – отозвался толстяк. – Куда бежать в такой дождь…
Далее беседа потекла оживленней, словно поспевая за ритмом песни и танца.
– Да, кофе у нас самолучший. Я вообще люблю, чтоб все было, как надо. Не терплю халтуры.