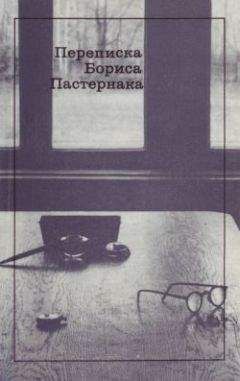Однако все это конечно же было абсолютно пустой формальностью и ничего не меняло, так как смерть наступила сразу после выстрела, произведенного из револьвера в голову, и воскресить Александра Александровича уже не представлялось никакой возможности!
Кроме немногочисленных вещей путешественника была также обнаружена многостраничная, со следами кропотливой правки рукопись, в которой, что явствовало при беглом прочтении, покойный довольно подробно и обстоятельно рассказывал о своей жизни — о своем детстве, родителях и братьях-близнецах. Однако воспоминания эти были изложены в весьма и весьма прихотливой манере, и вполне могло сложиться впечатление, что события, и составляющие, собственно, жизнь Александра Александровича, никак не связаны между собой, разрозненны и довольно часто повторяются. Впрочем, это не было результатом неумения организовать текст, но, напротив, скорее специальным художественным приемом, за которым следовало бы искать нечто большее, глубокое, чем просто изложение собственной биографии. Может быть, в этом содержалась некая философия безначальности и бесконечности существования, просто как перечисления событий, бытования, лишенного всякого рационального смысла, но лишь подверженного воздействию болезненных эмоций и ярких ощущений-вспышек, пусть даже и гипнотического происхождения. Реализация видения в данном случае всегда носила некий чудесный характер, свершалась даже не по горячей молитве, а по особой напряженности сердечному влечению, приносящему, увы, не только удовлетворение и радость, но и острую, вплоть до дыхательных спазмов боль, вплоть до обмороков и конвульсий. Что случалось потом? Потом на смену приходили полная опустошенность, слабость в членах, головная боль и расстройство желудка. Приходилось делать над собой нечеловеческие усилия, чтобы встать с кровати, с трудом добраться до ванной комнаты, пустить воду из крана и подставить под нее свою больную голову-колокол. А в зеркале, висящем над рукомойником, было видно, как волосы извиваются в потоке, словно водоросли, словно змеи, покрываются пепельного цвета пеной, выпадают, плавают в раковине, образуя при этом водовороты, заводи, воронки, бездонные черные плесы, балки, заполненные до краев болотной жижей овраги. Впоследствии выяснялось, что дно одного из таких оврагов было вымощено мраморными плитами, испещренными полустершимся каббалистическим орнаментом, а также мистическими изображениями, неизвестно кем и когда сделанными: лапа ястреба-пустынника, специальным образом засушенная над огнем жертвенника, двуглавая рипида, трехглавая рипида, открытая в четырех местах книга «Хесед», свиток, буквы греческого и арамейского алфавитов, алконост, крылатая собака, являющаяся божеством некоторых кочевых племен, буддийская божница, сосуд в виде чаши для причастия, птица-сирин, знак Великих Моголов, пылающий кустарник — Купина.
Здесь же, в этом овраге, Александра Александровича и похоронили, согласно его завещанию, обнаруженному среди страниц рукописи.
Почему именно здесь? Разбираться, конечно, никто не стал, но последнюю волю покойного все-таки выполнили
Попытка же разобраться в причинах гибели Александра Александровича тоже, к сожалению, ни к чему не привела. Версия самоубийства изначально была основной, но при этом оставались совершенно непонятны мотивы такого дикого поступка. Может быть, это и позволило впоследствии предположить, что путешественника все же застрелили. Но кто? Жандармский следователь был склонен подозревать соседа Александра Александровича по лестничной площадке, вечно пьяного скорняка по фамилии Мазурин.
Впрочем, ни малейших мотивов к совершению подобного лютого злодеяния Мазурин не имел, но в состоянии аффекта, с истеричным криком: «Сейчас как стрбельну в тебя!» — вполне мог решиться на такое безрассудство, так как страдал тяжелейшими головными болями, повышенным внутричерепным давлением, частыми бредовыми и галлюцинаторными состояниями с очевидными симптомами «делириум тременс».
На суде, состоявшемся после Пасхи, Мазурина приговорили к пятнадцати годам каторжных работ в Семипалатинском остроге и, как только сошел снег и просохли дороги, отправили по этапу.
Эпилог
Человек стоял еще какое-то время так — неподвижно, в оцепенении, словно пытался вспомнить что-то, вдыхал подвальную сырость, наконец успокаивался целиком, а затем выходил на улицу и отправлялся по пустому, насквозь продуваемому ветрами городу.
На пересечении Английского проспекта и Екатерининского канала останавливался у витрины небольшой книжной лавки. За стеклом, по которому ползали улитки, в густой перламутровой воде, подсвеченной электрическими светильниками в матовых колпаках, плавали книги. Переворачивались, выпускали из себя закладки в виде атласных лент, лент из папиросной бумаги и сыромятной кожи, оседали на дно, усыпанное разнообразными канцелярскими принадлежностями, выстланное старинными потрескавшимися холстами и пожелтевшими от времени линогравюрами.
С противоположной стороны к витрине подходил необычайно приятной наружности господин и приглашал человека войти.
В книжной лавке было жарко натоплено и преобладал приглушенно-коричневый свет. Оказавшись здесь, вполне можно было вообразить себя полностью потопленным на дне заброшенного пруда где-нибудь на задах старинной усадьбы. Хотя бы и в Арсаках.
Кроме расставленных рядами на полках книг, гравюр, фотографий в перламутровых, украшенных замысловатыми монограммами и каббалистическими символами рамках, тут еще продавались и древние географические карты, разложенные, как шкуры фантастических животных, на овальных столах. Жертвенниках.
По географическим картам ползали неуклюжие, кобальтового цвета жуки, и при помощи увеличительного стекла в медной оправе вполне можно было наблюдать, как они путешествуют по суше и по водам, по горам и долам, забираются в сделанный из кости монгольский реликварий, в котором, по преданию, хранилась высушенная голова известного бурятского мага-медиума из клана Великих Моголов — Джебе-нойона.
Владелец книжной лавки предлагал посетителю несколько книжных новинок, в особенности же обратив внимание на сочинение некоего Александра Кучумова, носившее престранное название «Быстрое движение глаз во время сна».
— Не желаете ли приобрести? Хотя нет, берите даром, я вам ее дарю!
Человек выходил на улицу. Что ему было делать с этой книгой, как, впрочем, и с револьвером, который чуть ли не до земли оттягивал внутренний карман его дорожной на ватном подбое куртки
…и сразу же пригрезился Петербург в один из тех редких теплых осенних дней, когда только что прошедший дождь уже испарился с мостовых, изошел, но воздух еще полнится пряной, пахнущей свежими водорослями сыростью. Говорят, что эти водоросли в высушенном виде весьма полезны для лечения разного рода нервных заболеваний
Виктория Измайлова
Дети затменья
Виктория Измайлова живет в Чите, работает врачом. Автор книг стихов «Жаворонковы сны» и «Талисман» (первая вышла в Чите, вторую выпустил в Петербурге Александр Житинский в своем издательстве «Геликон Плюс»: таков был приз за победу в сетевом литературном конкурсе «Арт-ЛИТО»). В Сети можно найти ее рассказы (в соавторстве с Романом Сидоровым) и стихотворения. Александр Кушнер назвал ее одной из главных надежд русской поэзии.
В толстом журнале Измайлова публикуется впервые. С одной стороны — это радостно, с другой — печально. Радостно — потому что хорошая русская поэзия, которой вроде бы нигде и нет, иногда еще благополучно пишется и, что ценно, печатается. Печаль же в том, что Измайлова пишет стихи (и чудесные песенки, сентиментальные и мужественные) уже много лет, стяжала известность в Интернете и в родном городе, а к журнальному читателю выходит только сейчас.
Я люблю Вику Измайлову за многое: за точность, за нежность, за иронию, — но главное, за то, что она не боится быть уязвимой. Качество по нынешним временам почти уникальное. Неуязвимо только мертвое — вот почему живые стихи стали такой редкостью.
Дмитрий Быков * * *
Выцвели луж голубые камеи,
Вдоль по обочинам — пыльные рвы,
А по лугам все лежит и тускнеет
Скифское золото старой травы.
Снова сквозь ветви березы и ели
Ветреный полдень разлил стеарин.
Каждою ночью поет у постели
Желтая птица весенних равнин.
В крапчатых перьях некроткого нрава
Тонко выводит, склоняясь ко мне,
Как закипает зеленая лава
Там, в глубине, у древесных корней.
Скоро! Подступит, прорвется, нахлынет
Сквозь раскаленные поры земли,
Мусор и хлам — захлестнет, опрокинет,
Словно враждебной страны корабли!
Если скажу, что напрасны усилья:
Время вселенной подходит к концу, —
Благословенные пестрые крылья
Больно ударят меня по лицу.
Если под вопли взбесившейся стаи
В зимнюю полночь придется уйти,
Желтая птица меня не оставит,
Тень ее будет бежать впереди.
Мама
Читает мама моя роман,
Блестят очки на носу.
Но Мама всех бесконечных мам,
Конечно, живет в лесу.
Она огромна, она стара,
Но все норовит расти.
В глубокой чаще ее нора,
И лапы ее — в шерсти.
Сминает ели ее живот,
Угодьям чиня урон,
Как будто она проглотила взвод,
А может быть, эскадрон.
Но хоть боится ее когтей,
Похоже, сам Сатана,
Лесная Мама не ест людей,
Не ест никого она.
Встает во весь беспримерный рост
В предутренней тишине,
И пьет молоко заплутавших звезд,
И лижет бочок луне,
И жаждет Мама весь мир объять,
И шепчет в сырой рассвет,
Что будет насмерть она стоять
За этот безумный свет.
Она воркует, она рычит
Среди бескрайних лесов,
И этот голос во мне звучит
Сильней других голосов.
* * *
Ужасно линючие кошки,
Достаточно грустные книжки,
С мостком деревянным картина.
В январских узорах окошки,
Кроватка для рыжего мишки
И — маленькое пианино.
Артачились нот закорючки,
Тускнела в пыли полировка,
Ленивые кошки — скучали.
А мамины тонкие ручки
По клавишам били неловко.
«Средь шумного бала, случайно…»
Но к маминой робкой досаде
Росла я с решением жестким
И в этой разлуке повинна.
Ты в крохотной нашей мансарде
Казалось мне слишком громоздким,
О маленькое пианино!
В том доме — серьезные люди,
Хрусталь, и сверкающий кафель,
И девушки правильный профиль…
По клавишам бегает пудель,
Любитель печенья и вафель,
И кличут его — Мефистофель.
* * *
Весенним хмельным дуновеньем,
Слепым неподкупным судом
Прекрасные дети затменья
Однажды приходят в твой дом.
Немерено их обаянье,
твою озарившее клеть.
Какие, мой Бог, расстоянья
Сумели они одолеть!
Покуда их вечные очи
Томят обещаньем любви,
Не видишь — истерзаны в клочья
Одежды и руки твои.
А видишь… и гонишь сомненья,
Мечтаньями ум иссушив, —
Прекрасные дети затменья
Дороже бессмертной души!
Беспечны, жестоки и лживы,
С повадками диких зверей
В ответ на твои же призывы
Возникли они у дверей.
Дрожите же, ветхие стены!
Лети, роковая стрела!
Какие нас ждут перемены!
Какая глубокая мгла…
* * *
Полдневного луча горячий грошик
И на столе меж черствых хлебных крошек
Остывший чай.
В лесную глухомань, такая жалость,
Не нужно уходить, как оказалось,
Чтоб одичать.
Под крана неисправного журчанье
Забыть речей значенье и звучанье —
Таков итог.
Вселенная глуха на оба уха.
Стучит в стекло разгневанная муха,
Ей невдомек.
Судьба всегда пристрастна и дотошна,
Но, может быть, совсем неплохо то, что
Все решено,
Что за окном — ни облака, ни птицы,
И никуда не надо торопиться
Давным-давно.
* * *
Все время ждешь чего-то,
То выходных, то денег.
И ходишь на работу,
И смотришь чертов телик,
Куплеты сочиняешь,
Микстуры принимаешь
И никогда не знаешь,
Кого ты обнимаешь.
Растишь свои фиалки,
Глотаешь бутерброды,
Латаешь плащик жалкий
Запредпоследней моды,
Удачу заклинаешь,
Полтинник занимаешь
И никогда не знаешь,
Кого ты обнимаешь.
Бросаешься в романы
И не глядишь под ноги,
Зализываешь раны
И думаешь о Боге,
Сомненья прогоняешь,
Волненье унимаешь
И никогда не знаешь,
Кого ты обнимаешь.
* * *
Стою, в душе звериной просвет не находя,
Над песенкой старинной слезами изойдя.
Не тенор при капелле, раскормлен и усат,
Ее мы с мамой пели сто тысяч лет назад.
Горланили дуэтом, два брошенных птенца,
А думали при этом — синхронно — про отца,
Что, мол, кому-то крышка, кранты, как ни крути,
А наш-то, докторишка, у смерти на пути.
Мы вслух его бранили, грехи его копя,
Мы так его любили! Безмолвно, про себя…
Из подкаблучной дали, с восточной стороны,
О, как его мы ждали! Как были мы верны!
Сквалыга-алиментщик, смотавшийся в астрал!
Игрок, фигляр, изменщик, он всех нас разыграл!
Я сердце заклинаю, чтоб было как броня.
Я до сих пор не знаю, любил ли он меня.
Ах, белые халаты! Ах, жизни торжество!
А жизнь — одни заплаты и больше ничего!
Паршивая шарада! Грабительский кредит!
Вот смерть — святая правда — слепа и не щадит.
Песенка жертвенных барашков
Монеты света не зароешь,
Сна золотого не продашь,
Ладонью небо не закроешь,
Звезды заветной не предашь,
Пусть говорят — не вечно маю
Сады и головы кружить,
Не плачь, не плачь, теперь я знаю:
Мы будем жить! Мы будем жить!
Где свищут в кущах духи леса
И ткут зеленое сукно,
Где опустившийся повеса
Цедит дешевое вино,
Где океан хрипит угрозы,
Где травы жаркие по грудь,
Где окровавленные розы
Роняет Бог на Млечный Путь,
В потоках воздуха и ливней,
Ночных машин, прозрачных рыб,
В пересеченьях ломких линий
На грубых гранях древних глыб
Пребудем мы — вселенской солью,
Сильны, как в мае дерева,
За то, что нашей скотской болью
Была Вселенная жива.