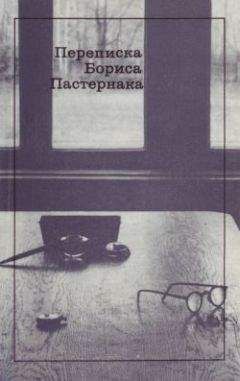Ольга Постникова
Петь и петь!
Постникова Ольга Николаевна — поэт, прозаик. Родилась в Москве, окончила Московский институт тонкой химической технологии. Печаталась в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Континент» и др. Автор нескольких книг. Живет в Москве.
Набирали желающих в школьный хор. Случилось так, что собрались девочки из десятого класса, уже барышни, да второклассницы, потому что школьницы других возрастов от пения отлынивали. Розу Левитину проверили и, отделив от тонкоголосых ровесниц, отправили во вторые голоса. Ставили ее впереди, перед рядом высоких девушек, и здесь она со своим красным бантом в рыжих волосах казалась совсем маленькой.
Коллективом руководил студент консерватории, красавец хохол, казацкими черными усами и ярким ртом похожий на Вакулу из мультфильма «Ночь перед Рождеством». Хор назывался «фольклорный». Выучив слова украинской песни «Нэ щебэчи, соловейко», Левитина не поняла слова «спарувався». При домашнем обсуждении вопроса мать ей сказала, что это переводится: «женился», а когда Роза спросила у руководителя хора, что значит «Ты сщаслывый, спарувався и гнэздэчко маешь», тот поспешно ответил: «Летает и поет». Но девочка больше поверила матери, хотя вообще-то с родителями у нее никогда не было взаимопонимания.
Жаль, но хор скоро развалился.
Их домашний проигрыватель надо было раскрутить вручную, а потом слушать запинающуюся пластинку, которая тем не менее выражала те чувства, которых девочке так не хватало в обыденном и пионерском ее существовании. Вызвав из пластмассового небытия голос Шаляпина или Лемешева, Роза искренне подпевала солисту, стараясь подражать всем голосовым модуляциям и паузам великих певцов, и в конце концов так насобачилась, что тянула вместе с ними, правда, делая один-два лишних вдоха на длинных фразах:
Жил-был король когда-то, при нем блоха жила.
Блоха? Ха-ха-ха-ха!
И арию о клевете:
Клевета все сокрушает,
И колеблет мир земной,
И как бомба разрывает…
При этом она воспроизводила не только голос певца, но и те звуки и писки, которыми сопровождались старинные записи на пластинках.
С тех пор в течение почти пятидесяти лет Роза пела. Каждый день. Она пела «Вдоль по Питерской», когда после уроков топала по лестнице на пятый этаж своего дома (старинный лифт с зеркалами почти никогда не работал), пела вполголоса «Эй, ухнем!» на поле, в дождь, выбирая картошку из борозды, когда по институтской разнарядке отправляли студентов осенью в колхоз, но пела и в июле, согнувшаяся над бесконечными рядами поля, которое надо было прополоть, и сдерживая темперамент «Дубинушки», когда после сессии их гнали в колхоз снова. Пела в девичестве и в замужестве, в горе и в радости и чуть ли не на операционном столе.
Всю жизнь она мечтала выступать на публике. Будучи студенткой первого курса, представляла, как будет петь в кафе на манер Клары Лучко — в черном длинном платье и пушистом боа:
Белая, несмелая ромашка полевая…
И держала карандаш в пальцах, как папиросу (хоть никогда и не пробовала курить):
Счастье мое, где ты? Пепел погоретый.
После выхода фильма «Разные судьбы» подхватила романс пожилого профессора:
Как боится седина моя твоего локона.
Ты еще моложе кажешься, если я около.
Но вообще-то ее репертуар был как-то старомоден — все народные песни да оперные арии, по большей части то, что исполняли знаменитые басы и баритоны. Поэтому, когда девочки тянули «Вот кто-то с горочки спустился», она шокировала всех грубыми неженскими низами.
Еще Роза любила «Не искушай меня без нужды», как-то ухитряясь довольно искусно имитировать то Катульскую, то Козловского, которые на пластинке поют дуэтом. Но во всю жизнь она не имела слушателей.
В родительском доме было не до песен после того, как мать в шестидесятом пошла работать. Приходила вечером со службы и трагическим голосом распекала дочку за немытую посуду и переполненное мусорное ведро. Родные терпеть не могли эти Розины истошные завывания, похожие на стоны и вои водопроводных труб.
В Станкине, где она училась на механическом, тоже дар ее не был востребован, даже и в художественной самодеятельности. Те костровые туристские песни, которые были в ходу, оставляли ее равнодушной, а грянуть какую-нибудь «Блоху» или «Ехал на ярмарку ухарь-купец» и даже «Барыню» среди вечера с танцами, взбаламутив лирический настрой, было неуместно.
Первый Розин муж зажимал уши от ее вокала, потому что вместо женственной подруги, какой представлялась ему эта высокая, с газельими глазами и выразительной грудью девица, он заимел какого-то ефрейтора-запевалу, командовавшего в доме всем — от стерилизации бутылочек для малыша до мужниной рыбалки и организации любительских футбольных игр. На матчи эти Роза, подготовив явку игроков, сама никогда не ходила. Пока супруг был на футболе, она предавалась пению.
Пожалуй, был у нее в жизни счастливый год, когда она числилась в декрете и сидела с сыном дома. Тогда она пела ребенку и «Блоху», и «Утро туманное», и «We shell over cоme», а малютка очень быстро научился подтягивать. Правда, однажды, когда вместо колыбельной она грозным голосом запела, подражая Ведерникову, из «Плясок смерти» Мусоргского, мальчик расплакался от страха, а рев ее был столь невыносим и ненормален, что соседи сначала возмущенно стучали в стену, а потом ринулись отбивать младенца у мамаши-садистки и так колотили в дверь ногами, что чуть не своротили замок.
Когда определила годовалое свое дитя в казенный дом, а сама после декретного отпуска вышла на работу, пенье всякое прекратилось, хотя, казалось, ребенок знал ту тайну, которую Роза никому не доверяла. Впоследствии никогда в жизни между матерью и сыном не возникало разговора на эту тему, но, наверное, потому он и вырос в такого чувствительного юношу и пылкого молодого супруга, что, можно сказать, с молоком матери впитал эти интонации страсти.
После развода, вернув себе снова девичью фамилию, Роза погоревала года два и снова вышла замуж за бывшего своего сокурсника, кудрявого гитариста, в любой компании быстро становившегося душой общества. Она и себе не признавалась в том, что ее согласие на брак отчасти было связано с надеждой петь вдвоем. В мечтах представлялось, как они исполняют дуэт из оперы «Евгений Онегин», причем сама она поет за Онегина.
Но всем этим благопредположениям не удалось сбыться, потому что ее избранник как привык первенствовать на дружеских вечеринках, так и продолжал петь один. Было заведено в компании, что он солирует, и когда Роза робко присоединяла свой голос к его пению Окуджавы, остальные ревниво и недовольно воспринимали ее подголосье, и как-то прямодушный гость сказал ей, чтоб не мешала. Всю жизнь она пыталась пристроиться к чьей-нибудь песне, и ничего не получалось. У нее просто был совсем другой стиль голосоведения.
Алик, второй муж ее, был человеком очень добрым, но не вникал в сущность проблем своей половины, а она снова ощущала неприкаянность, убиваясь на хозяйстве до такой степени, что в квартире всегда стоял дым коромыслом, вечно шла стирка, глажка, уборка, из-за которых жить в доме было совершенно невозможно, но во время которых неистовая творческая энергия, распиравшая Розу изнутри, находила выход.
Когда муж неожиданно, едва достигнув пятидесяти, умер, она не сразу осознала, что осталась совсем одна. Сын, к тому времени уже оженившийся, жил отдельно от матери, унаследовав внутрисемейную традицию вражды поколений, и лишь изредка справлялся по телефону, как там мать.
После смерти мужа Розе неизменно снился сон, что они с Аликом поют вместе на два голоса. Но сон этот, повторявшийся не раз и не два, был довольно странный и страшный, потому что представлялся ей там концлагерь, женская зона, и она сама, изможденная, в сопревшей добела телогрейке, перетаскивает камни с места на место.
Весна ей снилась, и короткоостая зелененькая травка кругом, и колючая проволока вокруг соответственно. Была, как она понимала, и стража, но вышки никогда не попадали ей в поле зрения. И за двумя рядами проволочной ограды — мужская зона, где ползали мужчины по черной земле, вроде искали дождевых червей и ели их — во сне она точно знала, что так, но сама не видела, как червей едят.
И Алик ее был там, в мужской части лагеря, и поднимался иногда на ноги, и махал ей. На это действие всегда была реакция охраны, раздавался окрик на немецком языке, хотя сами фашисты находились где-то за кадром.
И в одну ночь во сне она вдруг запела песню собственного сочинения. Мелодия после того, как она пробудилась, оказалась забытой, но Роза знала, что пела о любви, и никто ее там, в зоне, не останавливал. Подошла к проволоке-«колючке» близко-близко, так что слышен был электрический гуд, и стояла, прямо обратив взгляд к своему Александру, а он, лежа на земле лицом вверх, вдруг присоединился, вторя страстным ее взываниям. И так стройно впервые вдвоем они допели до финала.