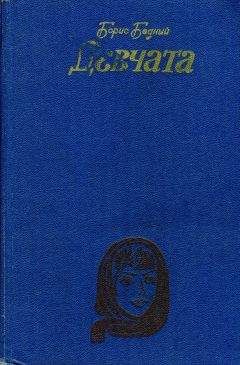— Газ, мама.
— Про газ я слышала. А им не задохнешься?
— Нет. Вон вытяжные отверстия. Все вытягивает.
— Ишь, шипит, злится, — хохочет, как дитя. — А откуда ж его берут, газ?
— Из земли. По трубам подают.
— И он горит? Гляди-кась: горит! — Она смотрит, а на щеках, в морщинах, как дым в трещинах нашей печки в станице, вспыхивают слезы.
«Бедная наша мама! Дорогая наша мамочка! Сколько ты перетаскала на своем горбу дров, пока подняла нас! Сколько пересобирала колючек, бодылок, бурьяна на топку за свою жизнь! Бывало, тащишь, великая наша мученица, целый воз — чуть ноги видать!.. Хоть бы подольше пожила теперь!..»
А она уже зажимает нос, отмахивается, но радостно, точно игру играет:
— Фу! Фу! Да им задохнуться можно, твоим газом! В горло уже залез. От него и угоришь, фу! Бежим скорей! Или туши!..
— Да не бойтесь, мама. У всех газ. Никто не умирает.
— Да, не умира-ает! Думаешь, я не знаю? Мне рассказывали в дороге. И я вот чувствую. У меня знаешь какой нюх!.. — точно бы пугает меня.
— Надо уметь пользоваться. Смотрите, как надо.
— Не хочу и смотреть! — отворачивается. Но отворачивается какая-то праздничная. А сама следит — глаз не спускает. — И не показывай. Я и не запомню. У меня память дырявая… Фу! Фу! Душит, хай ему черт! — А сама ж следит — глаз не спускает. Хотя вроде и отвернулась.
— Запоминайте, еще покажу.
— Не хочу и запоминать! Ффу! В нос лезет, зверь, душу раздирает! — А у самой глаза чуть не выскочат от радости.
— Не залезет, не раздерет. — Я тоже играю. — А как быстро приготовим! Вот. Следите, чтоб не сбежало.
Притихла. Ждет недоверчиво и радостно. Посматривает на огонь с разных сторон, счастливая и растерянная. И вроде осуждает:
— А никакой красоты! Дрова горят, так радость от них: искры рассыпаются, треск веселый… — И вдруг: — О, да чи вже кипит? Сынок! — И смеется, растерянная и счастливая. — Надо ж? Ни таскать на горбу, ни рубить… Не успела моргнуть, и уже кипит! Да как весело! Прямо диво!..
А за столом расплакалась.
— Что вы, мама?
— Да так. — Зажимает нос. И вытирает тыльной стороной ладони глаза. Больше пальцами. Как только умеет она, единственная в мире. — Свою жизнь вспоминаю…
«Бедная наша мама! Дорогая наша мамочка! Что ты видела в своей жизни? Тяпку? Лопату? Вилы? Топор?.. Что ты знала в своей жизни? Огород? Поле? Навоз? Ручные мельницы?.. Поживи хоть сейчас, великая наша труженица!..»
Вспоминаю, как шипели и плакали сырые дрова в печи, как мололи кукурузу ручной мельницей. Говорю:
— Не надо, мама. Теперь все у нас хорошо.
Роняет слезы с кивком. Убирает их, как смородину, негнущимися пальцами. Понемногу светлеет.
— Может, хоть вы поживете. Если не будет войны.
— Надо делать, чтобы ее не было. Вы отдыхайте, а я пойду работать. Хотите, на берег пойдите.
Смеется:
— Надо ж? Дожилась до чего! Можно и гулять!..
Из своей комнаты я слышу: что-то смеется на кухне, разговаривает сама с собой. Подкрадываюсь на цыпочках. Гляжу в дверное стекло: горит газовая плита, мама стоит возле со спичками. Смеется:
— До чего дожили, надо ж…
Выключает. Смотрит на горелку. Потом затаивает дыхание, накаляется, как перед чем-то необыкновенным, чиркает спичкой, подносит, осторожно и правильно все делая, и — хохочет: «Горит! Надо ж?..»
Смотрит прямо в огонь — радуется. Потом, затаиваясь, тушит. Опять приготавливается. И опять чиркает. «Горит! Надо ж? Опять горит! Аж не верится!..» Отступает на шаг: «Чи и правда, его нет?..» И, спохватившись, крестится, пугаясь себя, своей смелости: «Прости, господи, меня, грешницу!» Крестит и горелку, играя: «Ишь, что придумали!..» И косится, как на врага, но радостная. А через минуту опять чиркает: «Приготовлю щас сыну борща».
На цыпочках отхожу. И уже не могу работать — слушаю, как она готовит, как веселеет. Выхожу, тоже веселый:
— Ах, как пахнет борщом! Вот это здорово: наш, крестьянский! Недаром вы кашеварили в колхозе! Чудный борщ! Наливайте, мама!
Борщ в самом деле необыкновенно вкусный. Какой только умеет готовить одна она, моя мама. Я ем, а она любуется мною, радуется, что вот ее сын ест приготовленный ею борщ, приготовленный на газовой печке! И вдруг не то с тоской, не то с радостью:
— Сынок! А помнишь, как мы пололи в степи, а ты мне обещал: «Не плачьте, мама. Вот я выучусь, буду жить в большом городе и возьму вас к себе, у нас все будет…» Помнишь?
Я помню. Я все хорошо помню: ходили полоть кукурузу за десять километров, и не было у нас даже макухи, ели какую-то бурду из щирицы и жигуки. Я все хорошо помню. Говорю:
— Считайте, что все сбылось, мама.
Она оглядывает квартиру.
— Прямо царство! Вот буду пановать! — И смеется, ничего не видя от счастья. И тут же плачет: — А мы ж хлебнули! Даже врагу не пожелаю!.. — И вытирает тыльной стороной ладони глаза, больше пальцами, корявыми от времени и работ. — А теперь как в раю! Даже не снилось!..
Освоилась она в квартире быстро: готовит, стирает машиной, плещется, как утка, в ванне, включает сама телевизор, сама следит за программой, подолгу разбирая ее… Стала свежая, расцвела приятной старушечьей красотой, наполнившись новыми, радостными хлопотами, новой жизнью… И в эту новую жизнь привнесла из своей — написала в станицу, подруга привезла ее любимые цветы в горшочках, посадила еще, взяв у какой-то старушки отростков… За телевизором связала мне носки и перчатки, расшила подушку.
— Как вы так можете, не глядя?
— О! Моя мама, твоя бабушка, ночью, на ощупь, ковры расшивала, кружева вязала… Жалко, что не успела передать мне всего. Умерла, когда мне было семь лет…
Связала носки и рукавички и расшила подушечки и Валиным деткам, сшила одеяльца всем, отослала в Челябинск, и Володиным — повезла сама.
Вернулась — убитая.
— Что случилось, мама?
— Да что? И за стол не пригласили. Что ж? С чужой копейки живут. Подъехал на машине — как бурак, холка — хоть ободья гни… «Ну-ка, сын, возьми баян, покажи бабушке, как ты играешь…» Это внуку. Заиграл. Воображуля — страсть, а без души. Знает же, за какие деньги баян купили да как к матери да к вам относятся. С чего ж там завяжется чувство доброе? Одна фальш. Мальчик хороший растет, жалко мне, говорю: «Не так, внучок. Вот как надо…» Запела. А тот, буйло: «Нечего его учить. У него учителя не такие…» Я и пошла.
А через время:
— А Ванька Качинец, твой товарищ, дом построил.
— Рад за него, мама.
— Двое деток уже. Меньший на баяне играет. На премию дали Ваньке. Да так играет — заслушаешься. В саду любит играть.
Я представляю, где играет мальчонка: у друга моего хороший сад, чудные яблони, груши… Невольно вздыхаю.
Подступает:
— И у нас там есть где построиться. Сынок?
— Я если и буду строиться, то только на родине, в Отрадной.
Вздыхает:
— И я все о своей родине думаю, о Боровицах. Вот не помню, годик было, как увезли, а хочется повидать.
— Съездите, мама. Вот окрепнем, и поедете.
— Ох, чи дождемся, когда мы окрепнем!
Замкнулась в себе. Не стала смотреть телевизор.
Отложила рукоделие. Поскучнела. Все чаще стала рассказывать о станице. Написала подругам. И вдруг:
— Что-то я здесь плохо чувствую, сынок.
— А что, мама? Болит что?
— Все болит. Душа болит.
— Пойдемте в поликлинику. Врачи у нас хорошие.
— Да что мне врачи? Врачи не помогут. Это, должно, твой проклятый газ действует. Наглотаешься — целую ночь куры перед глазами: «Ко-ко-ко-ко…» Летят. Кричат. Кудкудачат всю ночь. Напрасно, должно, я их продала.
— А где бы мы их держали, мама?
— То-то и оно. А там воли сколько. Двор какой, улица… Раздолье кругом.
— Да кур у нас и в холодильнике хватит. Кончатся — еще купим.
— Да что мне твои общипанные куры, когда там и огород свой, и поле подходит, и речка какая…
— И здесь речка, мама. И поле есть.
— Не такая тут речка, ты мне не говори. А поле-то я видела, сынок. Нельзя ли там занять хоть клочок?
— Что вы, мама! То институтское поле!
— Я так и знала. Так и чувствовала, что у тебя и грядки нигде не выцарапаешь. И люди говорили. Я ж с тоски умру тут с твоими общипанными курами. Там выйдешь: «Типа, типа, ти-и-па…» — бегут со всех сторон наперегонки. Скачут за кукурузкой. И радость отовсюду к сердцу. Подсолнушки поднимаются. Кукурузка лепечет листочками. Цветы под окнами. Солнце горит. Не утерпишь — запоешь.
«Вот оно что! — думаю. — Затосковала моя мама!..» Но говорю:
— И тут можно петь, мама. Я давно собираюсь записать ваши песни.
Моргает:
— Правда? Это ты хорошо придумал.