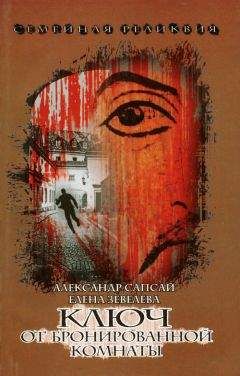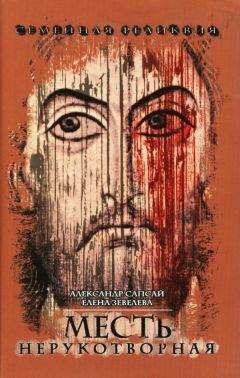— Космополиты вы теперь совсем стали, люди мира, — внезапно задумавшись, сказала почему-то Ольга. — К нашей-то сермяжной, даже кондовой отечественной действительности трудновато будет вам приспособиться, особенно девчонкам, когда назад вернетесь. Или вы не хотите совсем возвращаться?
— Да нет. Конечно, хотим. Мечтаем просто. Не представляешь даже, как хотим. Надоела нам эта загранка хуже горькой редьки. Но вариантов нет. Дома же нет такой работы, как здесь. Ты-то ведь знаешь, что каждый год мы все летние месяцы обязательно в Москве проводим. И прежде всего как раз из-за них, из-за наших девчонок, — вспыхнула моментально Наталья. — У моих родителей на даче сидим, и не в самых комфортных условиях. Можно даже сказать, испытываем тяготы и лишения. И всё для чего? Только для того, чтобы они со своими земляками-сверстниками общались. Мама с ними русский язык и литературу каждый день долбила по несколько часов. Думаешь, нравится нам все это? А Что делать? Других вариантов у нас, дорогая моя, пока, к сожалению, нет, — продолжала невестка, при этом ни на минуту не прекращая заполнять посудомоечную машину накопившимися с вечера грязными тарелками, чашками, вилками, ложками, горой сложенными на столешнице и в кухонной раковине.
— Я подумала, — перепрыгнув неожиданно совершенно на другую тему, добавила Наталья, — почему это ты, обычно откровенная, а так не хочешь рассказать мне, кто же все-таки этот настойчивый Андрей, который сегодня звонил?
— Да я ведь не об этом сейчас говорю, — поморщилась Ольга. — Ментальность просто у вас у всех здесь уже совсем другая. Представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, как писал поэт. Что позволительно, а что нет — иные. Не такие, как у нас всех, как говорят, «совковые». Вот я о чем. А ты что подумала? Понимаешь, я хорошо помню, например, когда в прошлом году мы с Олегом у вас гостили, и он в вашем садике пепельницу с окурками оставил, что тогда было! У Катюши же тогда чуть ли не истерика сразу началась. Это мне напомнило тех немецких детей, которые, увидев окурок на вылизанной пешеходной дорожке, кладут его в целлофановый пакет и относят в урну. Да и не просто туда бросают, а в специальное место исключительно для затушенных сигарет кладут. А чего стоят те же рассуждения Иринки об угрызениях совести, связанные с тем, что вы на «Мерседесе» ездите, а кто-то в это время недоедает? А ваши рассуждения о том, почему в России сейчас столько беспризорных детей, которых почему-то в основном усыновляют иностранцы, а не россияне? Причем в массовых масштабах. Или реакция Станислава на мои рассказы о том, как выживают наши профессора да академики? А его неподдельные переживания, касающиеся бешеной и не всегда чистоплотной борьбы за гранты, написания диссертаций «за чужого дядю», как у нас говорят. Я уж не говорю о подработках тех же педагогов, даже с нашей кафедры, где только возможно, включая и частный извоз, и работу охранниками, в том числе арбузов в летнее и осеннее время. О тех же взятках, которые сплошь и рядом берут преподаватели за экзамены и зачеты. О вступительных и говорить не приходится… Как он на все это смотрит? Совсем не так, как у нас, где все к этому давно привыкли и даже смирились с таким положением вещей. Некоторые, скажу тебе, даже считают, что так и должно быть в рыночных условиях, к которым мы перешли. Да что педагоги… А вот еще случай, запомнившийся мне с прошлого года. Мы пошли тогда с Олегом в бутик, что ближе к Партенкирхену находится, ты знаешь, чтобы поменять юбку на меньший размер. В этом модном магазинчике мы застали рыдающую продавщицу, дородную, приветливую, улыбчивую, модную женщину лет так семидесяти, но отлично всегда выглядящую, с лицом явно интеллигентным, породистым даже, на котором написан достаток. Красивая, видно, была в свое время женщина. На мой вопрос о причине рыданий она сообщила, что слышала утром по телевидению сообщение, что в далекой Австралии разбился самолет с туристами. И она горько переживает трагедию. Жаль ей от всего сердца семьи этих людей, среди которых двое были из Германии. Вот ведь какая реакция. Нормальная человеческая реакция. Олег даже, помнится, не выдержал, вышел на улицу и тут же закурил. А потом он мне сказал: «Знаешь, дорогая, эта женщина не сумасшедшая. Это мы сумасшедшими стали за долгие годы перестроек и реформ. Ей бы, этой благородной немке, хоть раз послушать сводки из Чечни или посмотреть телепрограмму „Чрезвычайное происшествие“, она бы, думаю, по-другому стала все воспринимать. Примерно как все мы. Только мы еще хуже, если такое бывает. Потому что таких передач за последние пятнадцать лет насмотрелись по горло. А уж фактов таких каждый знает огромное количество. А она, живя в своей, по нашим меркам, беззаботной Германии, на все реагирует как настоящий гражданин мира». Вот так, думаю, и Станислав, и ты, и девочки, да и практически все окружающие здесь вас люди переживают человеческую боль как свою собственную. А у Станислава, кстати, даже при любом упоминании об Иннокентии тут же просто изжога начинается… Так ведь? Скажу тебе откровенно, я ведь тоже никаких положительных эмоций при этом не испытываю. Но эмоции у меня, в отличие от него, несколько иные. Брат же мой, по-моему, искренне считает, что Иннокентий — средоточие всех зол современной России — высокопоставленный коррупционер, настоящий прохиндей, каких земля русская не видела, — Ольга с иронией продолжала свой длинный, выстраданный за долгие годы монолог, — планомерно и обдуманно разворовывающий страну, подрывающий ее экономику. Да это бог бы с ним. Это не самое главное. В сухом остатке, конечно, все это вовсе не далеко от истины, поверь. Весь ужас в том, что зятек мой никакое не исключение из правил, как думает Станислав, а довольно-таки рядовое по нашим меркам явление, тем более для практически всех слуг народа. А у вас на многие очевидные для всех нас вещи реакция в общем-то, милочка, не всегда адекватная.
— Какая реакция? Реакция нормального человека? Она что, тебе непонятна уже, что ли? — Наталья даже прекратила греметь посудой. — Любишь ты всё утрировать, Оля, — сказала она затем явно примирительно. — Всегда ведь были люди порядочные, сама прекрасно знаешь, и непорядочные. Кто-то мог быть выше обстоятельств, не прогибаться ни при каких условиях, кто-то нет, приспосабливался к ним, льстил, выслуживался, лицемерил… А для кого-то все это дикостью казалось. Для того, например, кто никогда хотя бы не опускался ниже самим же им установленной планки. Так, мне кажется, и сегодня в России, слишком много разных миров сосуществует рядом. Но лучше бы им никогда не пересекаться. Знаешь, как у Киплинга: «Запад есть Запад. Восток есть Восток. И вместе им не сойтись». Вот и журнал «Экономист» пишет…
— Да при чем тут «Экономист»? Наша действительность намного сложней и многообразней, чем представляют западные аналитики. Но ты не волнуйся, пока эти миры по определению пересечься не могут. Или, скорее, одни представители этих миров не хотят ничего подобного, а другие очень хотели бы, но не получается. В результате спокойствие нам на определенное время, думаю, обеспечено. Вот так издавна, моя дорогая, русская интеллигенция и рассуждала, как мы с тобой на кухне, причем точно так же начинала «за здравие», а кончала «за упокой». А ты про какой-то «Экономист» еще говоришь, — засмеялась Ольга. — Я-то ведь всего лишь хотела сказать, что дочкам твоим надо бы не такими ранимыми быть, не такими романтичными, а, наверное, позубастей да поклыкастей, если они хотят вернуться назад в Россию. А то ведь у нас-то быстренько их проглотят и не подавятся. Таких молодцов сегодня пруд пруди. Хотя, — с горечью продолжала она, — не мне тебя учить. Галку-то мою ее прагматизм, сама прекрасно знаешь, как далеко завел.
С этими словами Ольга стремительно встала из-за стола и вышла через большую кухонную дверь на веранду, с которой спустилась в небольшой уютный дворик перед домом, похожий на покрытую травяным ковром лужайку.
— Красотища-то какая! Просто сказочная. Справа — Альпы, слева — Альпы, и всего-то до них метров двести — триста! — воскликнула она с неподдельным восторгом и, вернувшись вскоре в гостиную, продолжала с иронией, обращаясь к Наталье: — Знаешь, что меня больше всего в первый приезд к вам поразило? Первый этаж вашего дома. Окна и двери французские. Решеток на них нет, вместо забора — живая изгородь посажена. За домом, в двух шагах дорога оживленная, машины, люди снуют, а у вас двери целый день нараспашку, и это никого не удивляет, все нормально. И все так живут. У нас же такое невозможно. Даже представить себе нельзя, что кто-то вдруг стал так жить на первом этаже, который чуть ли не вровень с землей, не завешивая огромные окна плотными шторами и не запирая на сто ключей двери. Ты уж меня извини, — продолжала она, обращаясь к Наталье, — но у меня всегда так в первые дни бывает, когда к вам сюда приезжаю. Невольно начинаю всё сравнивать, сопоставлять. Причем сама себя ловлю на том, что от этих сравнений агрессивной и вредной становлюсь до неприличия. За державу обидно сразу становится. Вот колючки из меня сами собой и выскакивают. Ты не обижайся, это скоро пройдет. Погуляем по городу, в магазины зайдем, в кафе на улице посидим за вкусным тортиком с фруктами, и все у меня пройдет. Вот увидишь.