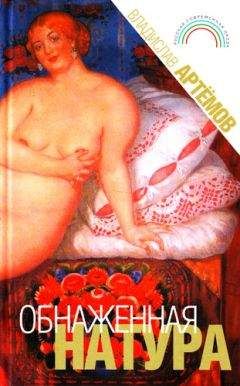Автор судорожно дернулся всем телом, какая-то безумная надежда сверкнула в его взгляде, он сцепил дрожащие худые кисти…
И снова страшная волна жалости ударила Родионова под самое сердце, ему захотелось вымолить пощады для этого бедного человека, для его брошенных детей и жены… Он растерянно огляделся. В голом и неприютном углу, спиною ко всему миру, прилежно клонилась над столом Неупокоева. Каждый материал давался ей с огромным напряжением и неизменно отклонялся, возвращался на доработку, а то, что удавалось ей напечатать неизменно подвергалось сокрушительной и веселой критике на летучках…
— Тум-бурум-бурум! Тум-бум-бурум! — послышался вдруг из коридора приближающийся маршик. — Тум-бурум! Тум-м!..
Лицо Сущего окаменело. Он медленно стал приподниматься, напряженно глядя на входную дверь. Дверь широко распахнулась…
На пороге стоял маленький упитанный Бердичевский. На голове его горел и малиново переливался бархатный берет. В руках держал он аккуратный новенький саквояжик.
Увидев Сущего, он запнулся, улыбка спорхнула с его лица, он встревоженно оглянулся и крепко прижал к груди саквояжик.
— Здравствуй, ворюга! — раздельно и торжественно проговорил Сущий, не сводя с Бердичевского глаз…
Кумбарович молча выскользнул из кабинета. Павел все еще стоял в нерешительности, но взглянув на лица противников, тоже поспешил вслед за ним на двадцатый этаж, в буфет.
— Экий чудной раскоряка, — отхлебнув кофе, задумчиво произнес Кумбарович. — А гордый ведь!
— Знаешь что, Кумбарович, — вздохнул Родионов. — Ведь таких Бог любит. А уж сам-то он в своей правде будет до конца стоять. Он духом живет…
— Ты вернись к нему, напечатай рукопись. Вот шуму будет! Ладно, выкладывай, что там с подвалом…
Возвратившись через полчаса Родионов обнаружил у своего стола бодрого мужичка, который ютился на шатком стуле и вскочил тотчас при его появлении. Родионов вынужден был пожать протянутую сыроватую руку и, приняв самый суровый вид, уселся на свое место. День, похоже, складывался неудачно.
Павел мельком оглядел поле боя. У дверей лежал поваленный стул, чуть-чуть сдвинут был с места тяжелый шкаф. Клочок малиновой материи зацепился за торчащий из шкафа гвоздик. Больше никаких следов…
Только не давать ему читать вслух, забеспокоился Родионов, видя как гость его, сверкнув проплешинами, низко наклонился над портфелем, потянул из него рукопись, но тут же сунул ее обратно и выпрямился. Можно было предположить, что наклонялся он единственно затем, чтобы быстренько сменить лицо, настолько разительно преобразился его облик. Брови были сдвинуты, щеки налились вдохновенным багрянцем…
— Я для начала, для первого, так сказать, ознакомления, — проговорил автор и объявил сразу же, не дав Павлу вставить слово, — «Отчий воздух», часть первая, — и снова без паузы взвыл профессионально: «Я видел Крым и воздух чистый, где рано утром шар лучистый…»
— Продолжаю! — крикнул Родионов.
— Ну? — сбился декламатор и недоверчиво глянул на Павла.
— Примерно, в общих чертах, но вы следите за сутью, — предупредил Родионов. — Дальше у вас написано про то, что за границей воздух еще чище, в Швейцарии, к примеру… Как там красиво, ухожено и подстрижено… Нет, Швейцария не подходит, не ляжет в размер стиха. — поправился он. — Цейлон, может быть, или…
Брови у посетителя удивленно приподнялись, он быстро выхватил из портфеля свои листки, сверился. Затем перевернул страницу, пряча текст от Павла.
— Вы дальше говорите о том, что воздух родного Кузнецка для вас гораздо целебнее…
— Тагила, — поправил автор. — Где читали? Это стихотворение было обнародовано только в нашей районной прессе…
— Логика развития поэтического образа, — объяснил Родионов.
— Ну хорошо, — согласился автор. Отвел глаза в угол, подумал мгновение и, победительно усмехнувшись, потер ладонью об ладонь. — Я вам сейчас другое прочту. Уж это всем нравится. Нет такого человека…
— Про баню?
— Откуда вы догадались? — изумился собеседник и с тревогой уставился на Родионова.
— Ага, — не стал объяснять Павел. — Итак, простая деревенская банька. Веничек, каменка, духмяный парок… Бьюсь об заклад, что именно «духмяный»! Как славно выскочить голышом, да в студеную речку, да снова на полок и снова веничком, веничком… А в конце для контраста — городская ванна, дескать, совсем, совсем не то…
— Да, есть и про ванну, — поник автор.
Он растерянно открыл портфель, вяло порылся в нем, вытащил еще один листок, но, поколебавшись, сунул его обратно. Родионов, видя его муки, сдался:
— Вот что. У нас это никак не пройдет, Аблеев зарубит… Но попробуйте пристроить это в «Сельские были». Там есть такой Кульгавый Иван, его спросите. Он сам из деревни, — обнадежил он бедолагу. — Но никаких ссылок на меня…
Минут через тридцать, проходя мимо дверей «Сельских былей» приостановился. Оттуда доносилось бойкое декламирование и голос был именно его автора:
В чистом поле колос созревает,
Раздается жаворонка крик…
— Крик! — заорал вдруг Кульгавый. — Где ж вы это слышали крик жаворонка?! Что ж его, душат, что ли, вашего жаворонка?.. А он сопротивляется, кричит как раненый заяц… Вот что. Ага! — голос Кульгавого стал вдруг ласковым. — Вы вот что, несите-ка все это в «Литературу и жизнь». Там есть такой Родионов Павел… Но на меня не ссылайтесь ни в коем разе…
Родионов быстренько вскочил в лифт и снова уехал на последний этаж в буфет.
Он некоторое время сидел, погрузившись в себя, попивая кофе и рассеянно чертя что-то шариковой ручкой на белой салфетке, а когда опомнился и пригляделся, был немало удивлен тем, что из хаоса штрихов, теней и линий сам собою сложился тонкий и воздушный женский профиль.
Благополучно проведя ночь на даче Розенгольц в Барыбино и «помелькав» на участке, Родионов, развесил по крючкам привезенные теплые вещи, а наутро налегке отправился в Москву. Дорога была довольно долгой и не очень удобной, поскольку Барыбино находилось километрах в пяти от железнодорожной станции, а автобусы в последнее время стали ходить редко и нерегулярно.
От метро Родионов возвращался домой, груженный тяжелой поклажей. Нес он в целлофановом пакете виноград, красный и белый, в другом пакете еще виноград, особенный, под названием «дамский пальчик». Кроме того, под мышкой левой руки была у него длинная желтая дыня, подгнившая сбоку. Эту гнильцу заметил он слишком поздно, когда далеко отошел уже от рынка, а потому возвращаться и требовать замены было поздно. В онемевшей правой руке находился у него еще и арбуз. Другой арбуз, который тоже пришлось ему купить, все-таки выскользнул по дороге и раскололся… Жалко было потраченных денег. А потратил он изрядно и, главное, не своей воле. Как-то все это случилось спонтанно и неожиданно. Он шел и удивлялся сам себе, поскольку вовсе не собирался ничего покупать, просто проходя мимо прилавка, замедлил шаг на одно только мгновение, залюбовавшись колоритным узбеком с круглыми жирными плечами, с сияющими, как бы намасленными щеками и хитрыми узкими глазками, которые чрезвычайно доброжелательно глядели на него.
— Что, — весело и беззаботно спросил Пашка и подмигнул узбеку, — сладкий виноград?
Этот праздный и ни к чему не обязывающий вопрос он бросил просто так, мимоходом, но в итоге после долгих и безуспешных попыток вырваться из цепких и ласковых рук узбека, вынужден был вытащить кошелек, купить и красный виноград, и белый, и особенный «сла-дки, как мед, ц-ца-х-х!» под названием «дамский пальчик». Был надрезан также арбуз, хотя Павел вовсе об этом не просил и всячески отпихивал этот арбуз от себя, но «ай, брат руским, сапсем нехорошо!.. Лично тебе, лично! От души… Арбуз кто теперь возьмет?» Пришлось взять арбуз. И в довесок длинную желтую дыню, которая как-то сама собою вкатилась на весы, удобно и ладно улегшись на бочок с гнильцой, и другой арбуз, поскольку все-равно «попробуешь, обязательно придешь. Зачем два раза ходить, ботинки тратить, сразу бери!.. Молодес! Яхши!..»
В каком-то светлом остолбенении и приятной расслабленности Пашка отошел наконец от прилавка, двигался по улице с безвольной виноватой улыбкой на устах. «Ладно, ничего, — думал он, — мне, конечно, всего не съесть… Надюшу угощу, Юрка Батрак поможет, ничего. Нормально… Яхши… В другой раз наука будет…»
За время отсутствия Родионова в доме произошли мелкие, но весьма важные для жильцов события, о которых Павел узнал тотчас, как только возвратился со службы.
— Ты представляешь, Паша, пришел, — рассказывала Любка Стрепетова, — скромный, тихий, шляпу в руках мнет. А руки красные, как у рака. Да и шляпа, знаешь… Бурая такая, войлочная…