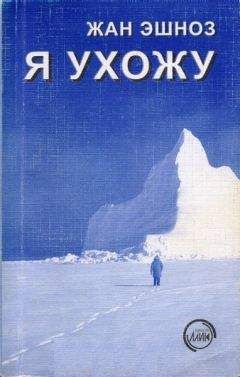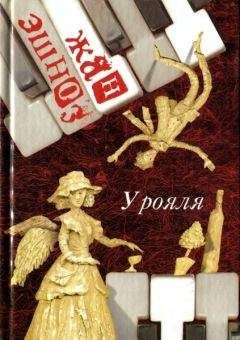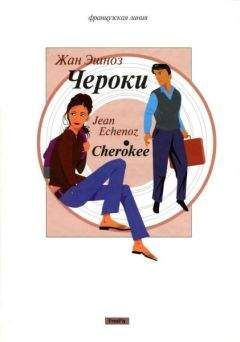Поскольку океан нынче гневен и бурлив, а воскресное, окутанное дымкой солнце припекает не слишком сильно, обитатели Биаррица вышли наружу полюбоваться яростной стихией. Они выстроились плотными рядами вдоль пляжей, а также на многочисленных террасах, дамбах, волнорезах, балконах, лоджиях, насыпях и бульварах, выходящих на вздыбленный океан, и созерцают его яростную работу, как опасный цирковой номер. Это зрелище неизменно потрясает человека, парализует его, он способен бесконечно, неотрывно и неустанно следить за морем; такое же действие оказывает на людей огонь, а иногда и дождь, а еще разглядывание прохожих с террасы бара.
В это воскресное биаррицкое утро Баумгартнер видит возле маяка молодого человека, который отважно стоит почти вплотную к океану, на самом краю прибрежной скалы, рискуя быть затопленным бешеной пеной, от которой, впрочем, уклоняется с грацией опытного тореро. Да он как раз и комментирует мощный напор бушующего моря в терминах корриды. «Ole! Torito bueno! Mira, mira, mira! Tiro, toro!» — кричит он, восторгаясь особенно эффектным взлетом волны или подбодряя следующий, грозно надвигающийся вал; словом, расточает всевозможные призывы, похвалы и возгласы, с коими обращаются на арене к дикому быку. После того как чудовищная волна с грохотом обрушилась на скалы, расплескалась, растеклась во все стороны и покорно легла к его ногам, чтобы умереть, юноша жестом матадора выбрасывает вверх руку, словно желая остановить мгновение, когда бык, уже пронзенный смертоносным клинком, еще держится на ногах перед тем как рухнуть на бок или на спину, нелепо задрав кверху ноги.
Баумгартнер проживет в Биаррице всего два дня, пока океан не придет в себя и не успокоится, вслед за чем уедет в глубь побережья. Теперь Баумгартнер еще старательнее, чем прежде, избегает остановок в городах, которые либо торопливо пересекает, либо, при малейшей возможности, и вовсе объезжает стороной. Он останавливается преимущественно в деревушках, где сидит, опять-таки недолго, в какой-нибудь забегаловке, ни с кем не общаясь.
Зато он слушает беседы других посетителей (например, четверых изнывающих от безделья мужчин, которые сравнивают свой вес, подыскивая соответствующий номер какого-нибудь французского департамента. Самый худой объявляет, что его вес равен номеру Мезы, второй, более или менее нормального сложения, претендует на Ивелин, третий, довольно полный, присваивает себе Бельфор, а самый толстый аж перешиб Валь д’Уаз[7], читает афиши, прилепленные скотчем к зеркалам («КОНКУРС КРУПНЫХ ОВОЩЕЙ»: с 8 до 11 час. — Запись на конкурс и презентация; с 11 до 12.30 час. — Совещание жюри; в 17 час. — Вручение премий и Чествование победителей. К конкурсу допускаются: Порей, Салат, Капуста обычная, брюссельская, сафой, цветная и красная, Помидоры, Дыни, Тыквы, Перец, Кабачки, Свекла красная и кормовая, Морковь красная и кормовая, Сельдерей, Репа обыкновенная, Редис зимний, Картофель, Кукуруза, Чеснок, Лук. В конкурсе могут участвовать все садоводы, но не более девяти видов овощей на человека, по одному образцу каждого овоща. Желательно предъявлять овощи с ботвой, стеблями и корнями. Жюри будет оценивать экспонаты на вес и по внешнему виду) или изучает сводки погоды в местных газетах (Облачно, возможны дожди и ливни, во второй половине дня грозы).
Погода и в самом деле прескверная, а сам Баумгартнер теперь как будто стал менее капризным в отношении отелей, в которых останавливается. Он выбирает гораздо более скромные гостиницы, чем ранее, и, похоже, это ему совершенно безразлично. В первые дни он регулярно скупал все местные и центральные газеты, внимательно читая рубрики «Культура» и «Общество», но не находя никаких сообщений о краже древностей. Когда Баумгартнер убедился, что в прессе об этом и не напишут, он ограничил свое чтение одной-двумя газетками, которые рассеянно листал за завтраком, пачкая маслом и конфитюром, оставляя кляксы апельсинового сока или кофе на желтых экономических страницах.
Однажды вечером он катит по дороге между Ошем и Тулузой, под проливным дождем, в темноте, наступающей все раньше и раньше. Дворники мечутся по лобовому стеклу, как безумные, фары слабо освещают шоссе, и Баумгартнер едва успевает заметить на обочине, чуть приподнятой над дорогой, смутный движущийся силуэт. Затопленный яростным дождем и вечерней мглой — вот-вот растает, как кусочек сахара! — человек даже не голосует и не оборачивается к проезжающим машинам, чьи огни и моторы, впрочем, не видны и не слышны среди бушующей грозы. И если Баумгартнер собирается остановиться, то не из жалости, а машинально или оттого, что слегка заскучал; итак, он сигналит о повороте направо, тормозит сотней метров дальше и ждет приближения силуэта.
Однако силуэт не спешит, словно не усматривает связи между собой и остановкой «фиата». Поровнявшись наконец с машиной, он дает возможность Баумгартнеру разглядеть себя, правда, с трудом, сквозь залитое водой стекло: это молодая женщина или девушка, она открывает дверцу и садится, даже не обратившись к водителю с традиционными для автостопщика словами. Она так вымокла, что лобовое стекло тут же затягивает легкая испарина; Баумгартнер с неудовольствием представляет себе состояние сиденья после того, как пассажирка выйдет. Мало того, — она вдобавок выглядит довольно-таки грязной и явно не от мира сего. «Вам на Тулузу?» — спрашивает ее Баумгартнер.
Молодая женщина отвечает не сразу, ее лицо плохо видно в полумраке. Затем она говорит — монотонно и размеренно, каким-то механическим, неприятным голосом, что направляется не НА Тулузу, а В Тулузу, и весьма прискорбно и странно, что люди часто путают эти предлоги, каковая ошибка совершенно непростительна и вписывается во всеобщее пренебрежение правилами языка, с которым нужно бороться и бороться, — она сама, во всяком случае, борется, где только может. Высказав все это, она откидывает мокрую голову на спинку сиденья и мгновенно засыпает. Вид у нее совершенно ненормальный.
Баумгартнер с минуту сидит ошарашенный и слегка уязвленный; потом задумчиво, словно колеблется перед тем, как отъехать, включает первую скорость. Через полкилометра девица начинает тихонько храпеть, и это его безумно раздражает, так и хочется открыть дверцу и вышвырнуть ее в мокрую тьму, но он одергивает себя и не зря: теперь пассажирка спит безмолвно, обмякнув в гибком ремне безопасности, и такой поступок был бы недостоин джентльмена, коим он твердо решил стать. Подобное чувство, конечно, делает честь Баумгартнеру, но его удерживает еще и другое: этот голос он уже где-то слышал. Борясь с трудностями езды среди враждебной стихии, он никак не может разглядеть свою спутницу, которая, впрочем, спит, отвернувшись от него. Тем не менее, Баумгартнер вдруг узнает ее — это какая-то фантастика, это невозможно, и, тем не менее, это именно она. До самой Тулузы он ведет машину с величайшей осторожностью, едва дыша, старательно объезжая все колдобины и пригорки, боясь разбудить спящую. Путешествие занимает у него не меньше часа.
Прибыв в Тулузу глубокой ночью, Баумгартнер высаживает девицу у вокзала, не зажигая света и отвернувшись, пока она расстегивает ремень, вылезает из машины и дважды почти неслышно благодарит его. Баумгартнер не спешит отъезжать; он следит за ней в зеркало заднего вида; женщина, не оборачиваясь, идет к вокзальному буфету. Поскольку вокруг стоит кромешная тьма, а девица, явно сбрендившая, ни разу не взглянула ему в лицо, остается надеяться, что она его не признала. В последующие дни Баумгартнер продолжает странствовать. Он познает меланхолическую печаль дорожных ресторанов, зябкие пробуждения в холодных гостиничных номерах, тишь и запустение сельских дорог и грохот строек, горечь невозможных влечений. И это длится еще около двух недель, по истечении которых, где-то к середине сентября, Баумгартнер обнаруживает, что за ним следят.
В продолжение тех же двух недель Элен заходила, притом довольно часто, раз в два-три дня, в галерею Феррера. Она являлась сюда, как и в больницу, то утром, то днем, не задерживаясь больше, чем на час, и Феррер, как в больнице, встречал ее вежливо, но сдержанно, с отменной учтивостью и старательными улыбками, словно имел дело с нервной обидчивой родственницей.
Даже его длинный рассказ о недавних бедах не помог их сближению. Элен выслушала его более чем спокойно: ни восторгов перед северными подвигами Феррера, ни сочувствия (или хотя бы насмешки) по поводу грустного финала этой эпопеи. Она не повторила своего предложения помогать Ферреру в галерее, но явно не из-за его нынешней бедности. В общем, их отношения развивались довольно-таки туго; им постоянно приходилось искать темы для беседы, не всегда находя их и то и дело впадая в длительное молчание. Не думайте, что молчание так уж тягостно, — иногда оно бывает вполне приятным. Сопровождаемое нужным взглядом или улыбкой, оно может дать прекрасные и самые неожиданные результаты — пробудить бурные чувства, обещать зыбкие, но светлые перспективы, подарить изысканнейшие нюансы отношений, сподвигнуть на решительные действия. Увы! — это был не тот случай: данное молчание выливалось в неловкие, вязкие, натужные паузы, тяжелые, как глина, липнущая к подметкам. Словом, истинное мучение. Элен стала наведываться в галерею все реже и реже; затем ее визиты почти прекратились.