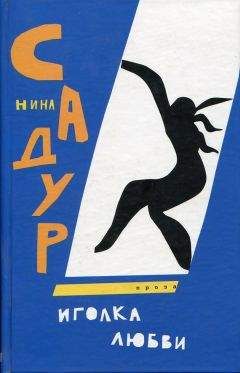Я не могла больше уснуть. Это несостоявшееся столкновение так разволновало меня, что я ворочалась и даже подкатывалась к идиоту. Который глубоко и пьяно храпел, лежал бревном. После этого я стала оставлять Виталю до самого последнего момента, когда уже нельзя было, когда уже становилось светло и я видела его рыжеватую испуганную мордашку и копну волнистых рыжих волос на мужниной подушке. Я отпускала Виталю, он нервно одевался и в коридоре чуть не сталкивался лбами с идиотом.
Виталя меня все время спрашивает: «Людмила Степановна, на хрен так рисковать? Зачем мы к вам домой ходим? Давайте ходить ко мне!»
— Виталя, — говорю я, — тебе твоя работа нравится? А тело мое? Вот и делай, как тебе говорят, и учти — отсебятины я не потерплю.
— Я, — говорит, — с вашим супругом сегодня в коридоре чуть не сшибся нос-в-нос. Я в туалет заскочил…
— Он импотент, — говорю я, — вот в чем дело, Виталя. Береги свое хозяйство, мой мальчик.
А иногда я люблю приехать домой по-честному, одеть халатик и — на кухню. Наварить борща, котлет навертеть с картофельным пюре. Я это очень люблю. Идиот болтается у меня за спиной и ждет котлетку. А я покрикиваю, чтоб не лез под руку. Или дам ему десятку — сбегай в гастроном за майонезом.
И ведь я бы ничего не узнала. И не было бы никакого Витали, если б не чашка чая!
Уже допивая ее, я поняла, что-то не так. Наутро с тяжелой головой, я поняла, что идиот подсыпал мне снотворное. Вначале я даже испугалась: мало ли до какого сумасшествия может дойти безработный алкаш, тем более на фоне преуспевающей жены? На следующий день я притворилась, что выпила снотворное и легла спать. Мы так долго лежали, что я чуть не уснула. Когда он встал, и, крадучись, вышел из спальни, я посмотрела на часы: было начало пятого. Подождав немного, я вышла в темный коридор. Когда появились хорошие деньги, я купила две квартиры на последнем этаже семнадцатиэтажки (я люблю высоту) и перепланировала ее в одну. Где-то в конце коридора брезжила полоска света. Я поняла, что это мой кабинет. Так я называю эту комнату. Днем идиот торчит в ней с утра до ночи, курит сладкие сигареллы и давит свой вонючий «Привет». Я запрещаю ему бывать в кабинете, но он делает это назло.
«Пошел выпить», — поняла я. И решила прогнать его. Но, подойдя к двери, я крепко задумалась. «А чего тогда ради он снотворное мне подсыпает? Если ему надо выпить и причем в моем кабинете, то зачем меня усыплять? Я ради этого ночью не вскочу. Я утром буду орать». Я прислонилась к двери и стала слушать. Да, он с кем-то разговаривал. Кто-то там был! А потом раздался долгий стон и жар окатил мое тело. У идиота там была баба! И они там занимались любовью!
Неделю я ходила, как больная. Я была настолько растеряна, что не представляла, что мне делать? Я даже стала пить этот хреновый чай со снотворным, все равно я не знала, что делать. А через неделю я сказала Витале:
— Виталя, ты хочешь посмотреть, какие у меня трусики?
Пока меня не осенила одна мысль. Мысль про темноту. Она меня осенила вчера на рассвете. Вчера был день «невинного борща». Но я проснулась от этой мысли на рассвете и невольно села на постели: «А почему я так и не видела его женщины? Почему я не зайду и не посмотрю на нее? Почему я с Виталей занимаюсь этим в темноте? Та женщина для меня — в темноте. И мужчина, с которым я сплю — в темноте. Я вижу только дурацкую рожу идиота с красными глазами и обвисшими губами. А где тот молоденький кандидатик исчезнувшей истории с синими глазами и тонкой шеей? Который боялся черноглазой капризной секретарши ректора? И который не побоялся увести ее у этого самого ректора — жирного кабана?
Мама моя, а где жизнь?!»
Тогда я встала и пошла по нашему коридору туда, где в конце его, под дверью желтела полоска света. Я увижу его бабу и скажу:
— Убирайся ты, козел вонючий, из моей жизни. Вместе со своей сучкой. Во-о-он отсюда!
Я тихонько приоткрыла дверь.
В комнате, залитой лунным светом, спиной ко мне и прямо у окна стоял абсолютно голый мой муж. Он держал в руке бокал с вином и чокался им с черным оконным стеклом. Выпив вино, он каким-то странным, замедленным жестом поставил бокал на подоконник, и столь же медленно, будто во сне, развел руки в стороны. Обнять хотел кого-то. Но, обняв воздух, он прижал руки к себе и стал гладить свое тощее тело. Потом он начал тихо скулить и лизать оконное стекло. Полизав, он начал остервенело мастурбировать. Я, заглядевшись, ввалилась в комнату, так чудно, дико и невероятно вел себя мой муж. Я уже забыла, зачем я пришла, и я хотела уйти. Но я вышла на середину комнаты, и, наконец увидела то, ради чего и пришла. То, чего я никак не могла видеть стоя в дверях. Ту, чьи приметы я каждый день искала в кабинете и не находила ни окурка, ни волоска, ни даже запаха. Особого запаха женщины, которую любят. Женщина. Я увидела женщину моего мужа.
В доме напротив, окно в окно в освещенном проеме стояла голая женщина. Эта голая напротив тоже пила вино, обнимала себя и глядела из сияющего окна на моего голого мужа. Движения их были настолько отлаженными, что мне казалось, будто их не разделяет черный провал двора, зимний воющий ветер, злая сука-ночь. Они совокуплялись с непреодолимым упорством.
Утром я вызвонила Виталю.
Теперь мы так и живем. Наши нервы истощены до предела. Мы все страшно исхудали. У нас круги под глазами. Движемся мы будто в трансе, будто в мозгу у каждого забыли выключить «утреннюю гимнастику», а сами ушли на работу и бодрое это радио вещает в пустой квартире. Пустой наш мозг залит нереальным и больным светом, но сами мы ждем только одного — темного предрассветного часа.
Я жду темного предрассветного часа, когда слепошарый идиот осторожно встанет с кровати и начнет шарить ногами по полу в поисках тапочек. У идиота зрение минус шесть, а то и семь, а то и восемь. Нашарив тапочки, он бредет темным коридором, а в кабинете он врубает нещадный свет. Он припадает к черному оконному стеклу, и очки ему не нужны, он все равно ни черта не видит.
Он не видит, что его голая баба уже ждет его у своего окна. Он не видит, что его баба абсолютно, совершенно голая. Голее не бывает. У нее даже голова голая, круглая, безволосая. Он видит только бабин силуэт, который через всю эту ледяную черную громаду непостижимой ночи тонко и слабо теплится. Он сам становится силуэтом, голым, одиноким, мужским силуэтом, припавшим к злой зиме, к окну.
А запотевший от страха Виталик, чудом не сшибившись лбом с идиотом, трусит ко мне по темному коридору. Мы будем исступленно терзать друг друга, пока не иссякнем, выжатые. Виталик захрапит на мужниной половине кровати, а я, сдерживая ненависть к нему, буду лежать с открытыми глазами и чутко слушать, не крадется ли мой идиот со своего левого воровского свидания.
Я жду его, как никогда в жизни не ждала. Никого в своей жизни. Даже молоденького кандидата гордой истории СССР.
Он приносит с собой этот запах. Запах пропасти.
* * *
Не знаю я, что они думают там, у себя. Видят они меня, нет ли? У них окна напротив наших. Я не устаю надеяться. Сил очень мало. Как только ночь, в самый глухой час встаю, поднимаюсь, как могу. Когда все спят на земле, за всеми стенами спят как убитые, подхожу к окну: уцеплюсь за стул, стул перед собой двигаю, так и подхожу помаленьку. И радостно мне становится — вон в доме напротив нашего — окно, свет всю ночь у них там. Там человек один одинокий не спит. Как я он. Подходит к окну, смотрит на меня. Я ему махаю, кричу ему. Знаю я, через ночь, через двор — не услышит. К тому ж ветер на нашей-то высоте на такой. Высунься, сам увидишь. Я одна осталась. Еды у меня пол-бородинского, огурец. Хоть бы пионеры какие-нибудь пришли. Да сказали, нету больше пионерской организации. Поэтому двери мои заперли два моих внука — Пашка и Петька. Когда уходили, сказали: «Прости-извини, бабка, зажилась ты сильно, а мы — слесаря, нам жить и жить, нам квартиру надо продать пополам, потому что мы молодые. Мы вернемся, найдем тебя мертвую на полу. Похороним по-человечески». А ты, человек в окне напротив нашего, ты почему не спишь-то? Каждую ночь я подхожу к окну, я думаю — может его тоже закрыли, того человека-то? Как помочь ему? Машет он мне, или мнится? Видит он меня? Я уж забыла, сколько мне лет, годочков. Восемьдесят было на Покров. Да только где тот Покров. Еще тогда был, когда не праздновали, зато пионеры ходили, старикам сильно помогали. Придут пионеры, в красных все галстучках, в рубашечках, газету мне почитают, кашу манную наварят, прелесть. Не угадаешь, как они там все — снаружи-то, люди-то? Лысая совсем, без волос уже. Челюсти и те сломались, пластмассовые, хорошие были челюсти. Одежа вся свалилась с меня. Пускай. Одно хорошо — в комнатах тепло. Пускай этот человек увидит, какая я стала в старости. Пускай этот человек догадается, что кушать хочу. Пускай придет, газету почитает, хоть пускай и поорет, поругает, а то, возьмет, принесет старенькой бабушке хлебушка и молочка.