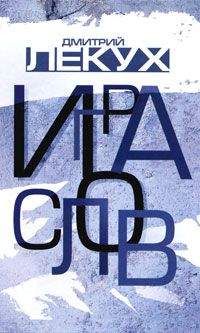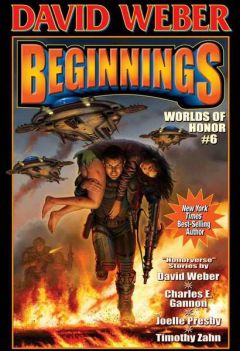– Дим! – кричит собирающаяся на работу мама из нашей единственной комнаты. – Это тебя! Этот, друг твой чернявый. Боря, из медицинского. Тети Нины сын. Ну, той, которая с телевидения. Ты иди, подойди к телефону, он что-то срочное говорит!
Нет, ну ни хрена себе, думаю…
Чего это он с такого-то ранья?
Бодун, что ли, совсем замучил?!
Так у меня всех денег – пятнадцать рублей со стипухи осталось, и те маме на подарок отложены.
У нее через три дня – день рождения.
А это – святое…
…Ну, да ладно.
– Привет, – говорю в трубку, – чувак. У тебя что, проблемы?
– Угу, – выдыхает. – Проблемы. И не только у меня. У нас у всех. Ты в институт свой сегодня собираешься?
– Вообще-то да, – хмыкаю, озираясь по сторонам, чтобы мама случайно не подслушала. – А то и так нагулял, мало не покажется.
– Ну так забей, – советует. – Я тебя через час у памятника Пушкину ждать буду. Как, успеешь?!
Так, думаю.
Чо-то здесь как-то неправильно.
Он таким тоном со мной вообще-то – никогда не разговаривал.
Я ведь, если что, – могу и отоварить, ни о чем особо не задумываясь.
Характер такой, уж извините.
Дурной, что называется.
Тревожный.
Значит, – действительно надо.
– Постараюсь, – говорю. – Ну, может, минут на пятнадцать-двадцать опоздаю. У нас сейчас все автобусы до метро битком идут, хрен влезешь. Я поэтому обычно на полчаса позже выхожу, тогда будет посвободнее.
– Выходи прям сейчас, – просит. – Если опоздаешь – ничего страшного. Подожду…
Ну, что делать.
Вылил остатки каши в раковину, смыл горячей водой, чтобы мама ничего не заметила. Быстро хлебнул горячего, обжигающе-сладкого, с молоком, чаю.
– Ма! – кричу. – Я побежал! Там Борьке что-то срочно надо, договорились до института в метро встретиться!
– Смотри, – отвечает из ванной, – лекции не гуляй!
И – добавляет с гордостью:
– Студент…
Для нее и вправду, сын-студент – предмет особенной гордости. Просто нас отец бросил, когда мне еще шести лет толком не исполнилось.
Одна поднимала…
…Выскочил на улицу, пока бежал до автобуса – даже успел покурить.
Просто я это обычно после маминого ухода делаю.
Нет, не то чтобы она не знала: сигареты-то я особо не прячу.
Просто – зачем человека нервировать лишний раз, ей и так от меня достается по полной программе.
То одно, то другое.
Втиснулся в автобус-экспресс, идущий до метро без остановок. Потом – влез в вагон, прислонился к надписи «Не прислоняться» и мгновенно заснул.
Поезд от «Кузьминок» до «Пушкинской» идет ровно двадцать минут.
Еще со школьных времен проверено.
Условный рефлекс – сразу после «Кузнецкого моста» как заведенный просыпаюсь.
Да и сейчас, чтобы добраться до институтского «Аэропорта», каждый раз именно на «Пушкинской» на «зеленую линию» пересаживаюсь.
Вот и выработалось уже – не хуже, чем у собаки Павлова…
…Боб слонялся вокруг памятника, шаркая ногами и поблескивая заиндевевшими стеклышками больших квадратных очков.
Причем даже в своих наимоднейших и наикрутейших по тем временам шмотках – предмете нашей всеобщей зависти к сыну журналистки-международницы, – выглядел мой друг Борька почему-то, – совсем жалко и даже – немного потеряно.
В руках – неизменный атрибут студентов и всеразличных бумажных клерков той унылой поры: пластиковый чемоданчик-дипломат.
Судя по тому, как оттягивает его руку, – тяжеленный.
– Привет, – говорю еще раз. – У тебя что? Что-то серьезное?!
Молчит.
Смотрит мимо меня.
Потом кивает:
– Пошли…
– Куда?! – удивляюсь.
– Туда, – кивает головой на другую сторону улицы Горького. – На эти, на ваши… как их… «домики»…
– На хуя?! – удивляюсь еще больше.
– Пошли-пошли – тянет меня за рукав. – Там все объясню…
Ну, – пошли, – так пошли.
Приехал уже.
Снявши голову, по волосам не плачут.
Деваться-то – все равно некуда…
…Дошли.
Молча залезли на самую высокую башню деревянного детского городка – самое что ни на есть, еще со школьных времен, любимое место.
Там лавочки еще такие вдоль стен, и даже подобие столика из досок в центре.
Очень удобно, врать не буду.
Мы там в десятом классе даже в преферанс играть умудрялись…
…Раскрывает дипломат, достает оттуда бутылку водки, целлофановый пакет с бутербродами, для верности еще и завернутыми в фольгу.
Два небольших граненых стаканчика-лафитничка.
Еще один целлофановый пакет, со скрюченными солеными огурцами, маринованным чесноком и черемшой.
Явно с рынка.
Ставит на стол.
Нет, ну ни фига себе.
Смотрит на меня внимательно, потом морщится.
– Мать, – вздыхает, – дала. А батя водку выделил. Из своих «стратегических запасов»…
Я – сначала не понимаю.
Потом – холодею.
Похоже, – у него какая-то беда.
И – серьезная.
Или у меня…
Просто его мать – даже запаха спиртного не выносит, ей реально плохо от этого становится.
У нее просто муж в свое время здорово пил.
Ну, Бобов отец, в смысле.
Потом, правда, завязал.
Насмерть завязал, по-мужски.
Но, как сам Борька рассказывал: у его родаков к спиртному по-прежнему о-о-очень сложное отношение.
И очень личное.
А тут – такое…
– Давай, разливай, – командует. – А то у меня, извини, руки трясутся…
И – замолкает, упорно отводя беззащитные, как у всех сильно близоруких людей, глаза в сторону.
– Да что тут происходит?! – взрываюсь. – Может, ты мне для начала просто тупо скажешь, что тут такое случилось, наконец?!
– Скажу, – отвечает почти спокойно. – Только ты сначала разлей…
Ну, делать нечего.
Разливаю…
– Давай, – поднимает стакан.
А руки – и вправду дрожат.
И – сильно.
Именно, что – дрожат, а не, скажем, «подрагивают».
– Давай, – повторяет, – помянем. Помянем всех тех, кто умер вчера. Молча. И ты тоже молчи. Просто помянем, и все. И – не гляди на меня так. Сначала мы выпьем, а потом я все тебе объясню…
Вообще ничего не понимаю.
Но водку – пью.
Залпом, не чокаясь.
Ощущая, как она обжигает пищевод, прожигая дорогу через мамину гречневую кашу с чуть кисловатым молоком из треугольных магазинных пакетиков.
Были в те времена такие, да…
Просто чувствую: так надо.
И – все дела…
Горькая, зараза.
Злая.
Нюхаю рукав, морщусь.
Не доводилось еще так, честно говоря.
Еще и девяти утра-то нет, ага…
…А Боб – наливает еще по одной.
Теперь – сам.
Молча выпивает, и я, так же молча и покорно, следую его примеру: случилось что-то страшное, и мне, привыкшему играть в слова, сейчас, наверное, – лучше просто помолчать…
Боб достает свои вечные папиросы, закуривает.
Была такая мода в те нелепые времена: вполне обеспеченные и успешные люди кашляли, давясь этими грубыми простонародными папиросами.
Я – распечатываю «явскую» «Яву».
Мне – на моду насрать.
Шмотки, конечно, забугорные люблю, как любой советский студент, но – чтобы вот так, по мелочи?
Неинтересно.
Молчим.
Курим.
Я, уже самостоятельно, разливаю по третьей.
А что?
Раз уж начали…
– Знаешь, – вздыхает наконец, – почему нас вчера так долго на трибуне мурыжили, а потом еще и через другой выход выводили?
Поднимает наполненный мною лафитник, смотрит сквозь водку и стекло на розовое утреннее осеннее солнце.
Потом – выпивает.
Качаю головой, но все-таки присоединяюсь.
– Нет, – морщась, выдыхаю переполненный водочными парами воздух. – Не знаю. А что?
– Да там, – досадливо кривится.
Потом машет рукой.
И продолжает, почти спокойно, только глаза за толстыми стеклами очков почему-то – тоже совсем стеклянные.
Стекло за стеклом.
И – никакой жизни.
Кажется, мы это уже проходили…
– Помнишь, – спрашивает, – народ незадолго до конца к выходам потянулся?
Киваю.
Еще бы не помнить.
Чуть ли не каждый раз такая картина.
Злит, если честно.
Ты сюда болеть пришел?!
Ну – так и болей!
И какое ты право имеешь уходить «чуть пораньше», когда команда, чтоб тебе сделать хорошо, прямо перед твоими глазами на поле умирает?!
А эти…
…Хотя вчера, повторюсь, там и вправду было – просто нереально холодно и промозгло.
– Ну вот, – вздыхает. – А потом Серега Швецов банку положил. Они обратно и рванули. И – два встречных потока…
– И что?! – напряжение, кажется, уже звенит в воздухе.
Он опять разливает.
Уже по четвертой, так, на секундочку.
– И все, – морщится, глядя в стакан. – Ступени – обледенелые. Менты для своего удобства часть выходов перекрыли на хер. Давка. Больше шестидесяти человек только трупов. Раненых – «скорые» не справлялись. Из наших: Серега, Вовка, Мишаня. И…
У него перехватывает горло.
Я понимаю…
…Она ему – всегда нравилась.
И он ей.
Хоть и был наш Боб конкретным реальным мажором, а она – девочкой из обычной рабочей семьи.
Но дело – даже не в этом.