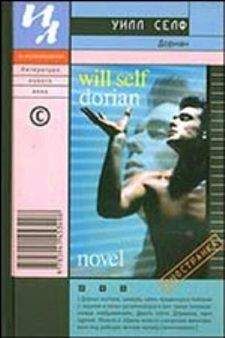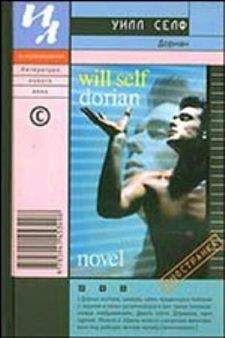— Это претенциозно, — сказал он. — Трогательная демонстрация самомнения.
— Не бери в голову, — посоветовала Шарлотта.
И он согласился попробовать.
Они жили, все трое, на верхнем этаже блекло-коричневого дома, стоявшего на Массачусетс-авеню. В дребезгливых окнах его колыхались постельные покрывала, украшенные «индийскими огурцами», на чопорном парадном крыльце раздраженно поблескивали серебряные колокольчики. Билли этот дом обожал. Он любил Шарлотту за ее ироничность, манерность и чуть приметное мужеподобие. Любил Инез за своевольное методичное неприятие здравого смысла. Это благодаря ей в доме не переводились амфетамин и «кислота». Благодаря ей через дом проходила процессия незнакомцев, по преимуществу тощих и склонных к созерцательности — одни внезапно обнаруживались в душе, другие сидели, перебирая гитарные струны, на крыльце, третьи, небритые и стеснительные, выходили по утрам к завтраку. Билли называл Инез с Шарлоттой Святыми Сестрами Вседозволенности. Он открыл им все свои секреты и уже начал придумывать новые.
Имя Вилл пристало к нему быстро, на что он поначалу почти и не смел надеяться. Друзья Билли с готовностью приняли его, поскольку едва ли не все на свете представлялось им покосившимся от старости и нуждавшимся в переименовании. Сначала имя Вилл стало его тайной привилегией, затем правом и, наконец, обратилось в объективный факт. Для друзей он не был больше человеком по имени Билли. Билли принадлежал прошлому, отмирающей эре автомобилей, невзгод и колониальной алчности, одиночества в преуспевающих семьях. Вилл обладал новой красотой: чистой кожей, острым и тонким лицом, обрамленным спадавшими на плечи волосами. Вилл был человеком сильным, невозмутимым, обладателем симметричного тела, длинных ног и косматого треугольника мягких волос на груди. Движения этого тела, укрытого армейской курткой и бесформенными штанами цвета хаки, отличались изяществом и легким налетом неуверенности. По временам, при определенном освещении, Билли и сам готов был поверить в то, что обратился в мужчину по имени Вилл. Впрочем, это быстро проходило, и он вновь становился собой, мальчиком по имени Билли, маленьким и глуповатым. Окружающие называли его Виллом, но в сновидениях и мыслях своих он оставался Билли, и никем иным, мальчишкой, который достаточно умен для того, чтобы прокладывать себе путь плутовством, и отлично сознает пределы возможного.
В теплый апрельский вечер, когда в воздухе пахло дождем, а люди, шедшие по Брэттл-стрит, несли в руках бумажные кульки с тюльпанами внутри, некий мужчина склонился к Билли и произнес:
— А знаете, у вас редкостная душа. Ничего, что я говорю вам об этом?
Билли, сидевший с романом Фолкнера и чашкой кофе за белым мраморным столиком, поднял взгляд, ощутив настороженную панику, — как если бы бестелесный голос обнародовал самое стыдное из его потаенных желаний. Мужчина стоял, слегка нависнув над столиком. Человек сорока без малого лет, со сложным, чем-то геологическим в устройстве лицевых костей, с прозрачными глазами. Он создавал впечатление существа до безумия огромного, хотя даже крупным никто его не назвал бы. В этот безветренный день волосы его были словно сметены назад.
— Ничего, — ответил Билли. Страх одолевал его, однако голос Билли звучал твердо и отчасти скучающе, как будто он уже привык к знакам внимания именно такого пошиба. Сказать, обуян ли этот мужчина безумием или вдохновением, Билли не взялся бы. На лице застыло выражение собачьей преданности. Одет же он был в белые расклешенные брюки, коричневую кожаную куртку, а на груди покачивался на ремешке знак инь и ян.
— Редкостная и древняя душа, — задумчиво произнес он. — Я просто обязан был остановиться и сказать вам об этом. Только напрасно вы пьете кофе, оно возбуждает тело, но убивает дух. Это из-за него вас окружает оранжевая, искристая аура.
Билли кивнул. Он понимал, что мужчина этот нелеп, а может быть, и опасен, но покидать кафе прямо сейчас ему не хотелось. Да и мужчина взирал на него с таким неприкрытым благоговением.
— Мне нравится оранжевый цвет, — сказал Билли и отпил кофе.
— Все правильно, молодость, — согласился мужчина. — Как ее ни прожигай, она продлится целую вечность. Я не виню вас, сам был таким. Меня зовут Коди.
— И вы всегда вот так заговариваете с незнакомыми людьми?
— Отнюдь не со всеми. Я увидел в вас нечто знакомое мне, так же как вижу сейчас источаемый вами свет. Оранжевый, но с наипрекраснейшей, чистой голубизны каймой. Представьте себе пламя газовой горелки.
— Я Вилл, — вызывающе произнес Билли и тут же показался себе человеком, назвавшимся выдуманным именем. А примирившись с этим, почувствовал, как по венам его разливается половодье новых возможностей.
— Прелестно, — сказал Коди. — Очаровательно, о да.
И он протянул Биллу руку, — не так, как все, но открытой ладонью вперед, — и Билли повторил этот жест одержавшего победу боксера. Ладонь Коди оказалась большой, сухой и не мозолистой.
— А вы… вы здешний? — спросил Билли.
— Я с Марса, дитя мое, — ответил Коди. Глаза его отсвечивали зеленью, на полуразрушенном временем невзрачном лице то проступала порывами, то исчезала нескладная древесная красота. Пожалуй, ему все же за сорок. — А вы студент? Из Хагвагда?
Билли кивнул. Он уже научился гордиться выпавшей ему привилегией и стесняться ее. При любом разговоре Билли норовил упомянуть о том, что происходит он отнюдь не из именитой, обеспеченной семьи, однако, когда это ему удавалось, ощущал себя лжецом. Разве не знал он любви и денег? Разве все напасти его не были на самом-то деле недугами привилегированности?
— Хагвагд, — повторил с удовольствием и пренебрежением Коди. — Новая поросль спасителей человечества. Что вы читаете?
Билли показал ему книжку: «Авессалом, Авессалом!» Коди кивнул.
— Самого великого старика, — сказал он. — А скажите мне, Вилл, что вы любите в этом мире?
— Как?
— Что вы любите?
Билли нервно улыбнулся, ощущая себя и желанным, и немного нелепым сразу. Он хотел, чтобы этот мужчина и дальше проявлял к нему интерес — не потому, что наслаждался им, но потому, что, если интерес увянет, если Коди уйдет, сочтя его пресным гарвардским юнцом, неуверенные надежды, которые питал Билли, угаснут в его душе. И сказать о нем с полной определенностью можно будет только одно: скучный он человек.
— Ну, я люблю Фолкнера, — ответил Билли, и уши его вспыхнули от благонравной скудости этого ответа. Чем большее желание очаровать Коди он испытывал, тем меньше тот ему нравился.
— Я говорю не о книгах, — сказал Коди. — Не о чем-то мертвом. Что вы любите в жизни, в ее живом, дышащем организме?
— Кофе, — беспечным тоном произнес Билли. — Распродажи в «Кей-Марте». А теперь, боюсь, мне пора.
Коди положил ладонь на руку Билли. Ногти у него были набухшие, ярко-розовые, коротко подстриженные.
— Не уходите так сразу, — сказал он. — Сначала пройдитесь со мной немного, всего минуту. Я кое-что почувствовал в вас. И мне необходимо выяснить, прав ли я.
— От вас так просто не отделаешься. — Билли сообщил это не Коди, а его ладони.
— Ну что вам стоит пройти со мной несколько кварталов? Все пребывает в движении, Вилл. Все вокруг нас пощелкивает, вращается, открывается и закрывается снова. Вы понимаете, о чем я говорю?
— Нет.
— О да, понимаете. Пойдемте.
Билли поколебался. А затем решил, что Вилл, человек храбрый, сумасбродный и не вполне реальный, пожалуй, сделал бы это. И, ощущая, как в душе его сплетаются бесшабашность и боязнь, Билли расплатился и вышел с Коди из кафе. На улице загорались фонари, бледно-лимонные на бледном вечернем небе.
— На самом деле вы же не любите распродажи в «Кей-Марте», — сказал Коди. — Вы просто слукавили.
— Ну, ведь и вопрос ваш был не лишен манерности.
— Слукавили-слукавили. Будьте поосторожнее, иначе фешенебельный университет, в коем вы обучаетесь, обратит вас в суемудрого лукавца и циника. Вы же не хотите стать настолько старым.
На ходу от Коди чуть попахивало древесной стружкой. Человеком он был плотным, несшим собственный ореол ароматов и металлических звуков: позвякиванья ключей в кармане и браслетов на запястьях. Билли нервничал, чувствовал себя немного униженным. И кое-что набухало в его паху. Он всегда знал, чего именно хочет, но не мог и вообразить, как эти желания воплощаются, и потому вел жизнь эстета, молодого адепта знания. Он был добрым другом, стипендиатом, скромным объектом вопросительных взглядов, наивным и словоохотливым, неуловимо романтичным, ничьим. Половую жизнь, довольно торопливую, он вел лишь с самим собой. И не позволял себе особенно увлекаться мечтаниями.
— Старым — хочу, — сказал он. — И в лукавстве ничего дурного не вижу.