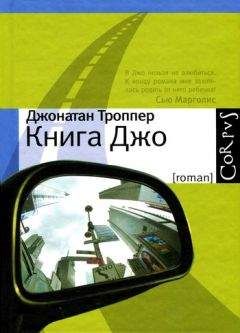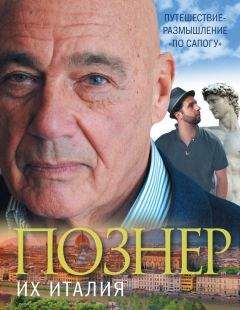Хотя меня и восхищала такая ее сознательность, что-то во всем этом меня смутно тревожило, как будто она была оракулом, видевшим грозные знамения, совершенно недоступные мне.
— Но ты же всегда останешься собой, — возразил я. — Разве нет?
Она вздохнула и задумчиво закусила губу.
— Всякое может случиться, — сказала она. — Может, мелочь, а может, и что-то серьезное. И все это потихоньку изменяет человека, шаг за шагом, до тех пор, пока оттого, кем он был, уже ничего не осталось. Если я собьюсь с пути, мой дневник сохранит в себе запись о том, кто я есть, он, словно хлебные крошки, выведет меня на знакомую дорогу.
— Тогда ты и за мной в своем дневнике приглядывай, ладно? — сказал я. — Приятно знать, что кто-то смотрит, чтобы я не сбился с пути.
— А если мы с тобой расстанемся? — спросила Карли, не терявшая способности трезво смотреть на вещи.
— Это будет означать, что, по крайней мере, один из нас сбился с пути. Ты тогда пришли мне копию этого дневника, и он вернет меня к тебе.
Она остановилась и обняла меня, прижалась лбом к моему лбу и закрыла глаза.
— Хорошо бы, если бы это действительно было так, — пробормотала она.
— Ну, и не такое случается.
— И все-таки, — сказала она, — я думаю, лучше нам не расставаться.
Я чмокнул ее в нос и сказал:
— Согласен.
Наутро мы с Брэдом возобновляем свое неловкое дежурство у постели отца, как будто вчера ничего не было. Он оглядывает мое разбитое лицо и заплывший глаз, и я уже вижу в его глазах некую фразу, но, к счастью, своеобразный внутренний цензор, которого мне так не хватает, не дает словам сорваться с его губ. Он просто кивает и ничего не говорит. Мы потягиваем выданный автоматом кофе, листаем журналы, купленные в киоске на первом этаже, и по очереди делаем неуклюжие попытки завязать разговор, как будто разыгрываем странный гамбит, неминуемо обреченный потонуть в неловкой тишине, нарушаемой только мерным гулом аппарата искусственного дыхания. То, что периодически появляется сестра и меняет заполненный пластиковый контейнер катетера на пустой или записывает показатели на приборах, дает нам передышку — можно наконец хотя бы ненадолго прервать это однообразие, задать какой-нибудь неважный вопрос, обменяться малосодержательными репликами. Сегодня Брэд пришел один, никак не объяснив подозрительное отсутствие Синди, но я благоразумно удерживаюсь от вопроса. Если я чему и научился за последние сутки, так это тому, что везде может таиться ловушка.
Примерно в час дня Брэд, зевнув, объявляет, что ему нужно сходить на фабрику, что-то там проверить. Он пишет на обложке журнала номер своего мобильного, на всякий случай, и уходит, сдвинув брови, погруженный в неведомые думы. Его уход и расстраивает, и, честно говоря, успокаивает меня.
Проходит от силы минут десять после ухода Брэда, когда дверь вдруг распахивается и в комнату входит Дуган. При виде него у меня внутри все сжимается.
— Джозеф, — говорит он, снимая в дверях кепку.
— Здравствуйте, тренер, — говорю я, моля, чтобы мой голос не задрожал. Дуган — один из тех людей, одно присутствие которых заставляет вытянуться по стойке «смирно» даже в переполненном физкультурном зале. А уж в больничной палате он выглядит настоящим гигантом, это помещение совершенно не соответствует его размерам и мощи.
Он подходит к кровати и смотрит на отца.
— Он неважно выглядит, — говорит Дуган, — а что врачи говорят?
— Состояние тяжелое, — отвечаю я.
Дуган хмыкает:
— Он хороший человек. И если он знает, что в коме, то наверняка из-за этого злится. Он заслуживает лучшего.
В голосе тренера слышится упрек, но точно я не уверен. Сам факт разговора с ним уже довольно дик. Его глубокий хриплый голос предназначен для обращения к команде, к целому коллективу, и что-то безумное мне чудится в том, что он обращается ко мне одному.
— А Брэд где?
— Ему нужно было отойти на несколько минут в офис.
— Передашь ему, что я заходил.
— Конечно.
Совершенно неожиданно Дуган наклоняется и коротко целует отца в лоб. Потом он выпрямляется, подходит к двери, открывает ее и, оборачиваясь, говорит:
— Шон Таллон может быть очень опасен. Он немного не в себе. На твоем месте я бы держался от него подальше.
— Не поздновато ли, — говорю я, указывая на свое избитое лицо.
Дуган качает головой и смотрит на меня как на идиота:
— Могло быть гораздо хуже.
— Ну, тогда, наверное, с меня причитается за вчерашнее вмешательство.
— Это я ради Брэда, — сердито бросает он. — На него и так достаточно навалилось, не хватало еще, чтобы он сам загремел в больницу из-за Таллона.
— Мне показалось, Брэд отлично справлялся.
Дуган бросает на меня испепеляющий взгляд:
— Я забыл, с кем разговариваю.
— С кем же?
— С тем, кто не рубит ни хрена.
Он выходит из палаты и закрывает за собой дверь. Я ничуть не удивлен, что даже при включенном кондиционере я слегка вспотел.
— Ну вот, пап, мы с тобой одни, — говорю я немного смущенно и сажусь читать «Эсквайр». Через некоторое время я перехожу на «Ньюсуик», и после этого, где-то на середине «Ю-Эс Уикли» я отключаюсь. Мне снится Карли, как это часто со мною бывает, что-то теплое, приятное и бесконечно грустное, и тут я просыпаюсь и вижу, что отец смотрит на меня. Я резко выпрямляюсь, задеваю локтем пластиковый стаканчик, он падает с подоконника на пол, заливая мои сандалии и отвороты штанов чуть теплым кофе.
— Папа, — говорю я хриплым спросонья голосом, — это я, Джо. Слышишь меня?
Ответа нет, но в его отрешенном взгляде, кажется, мелькает что-то осмысленное. Я беру его ладонь, такую большую и грубую по сравнению с моей, и слегка сжимаю. Рука так и остается безвольно лежать, но я замечаю, что глаза отца открылись еще шире, густые брови вопросительно поднялись одинаковыми арками. Я тянусь к нему, медленно встаю на ноги, боясь разрушить чары, и несколько раз нажимаю на кнопку вызова сестры. Его глаза продолжают следить за мной даже в движении, и когда я снова сажусь возле него, я вижу большую выпуклую слезу: она дрожит, набухая на розовой оболочке в уголке его левого глаза. Достигнув критической массы, слеза медленно скатывается наискосок по щеке, по дороге впитываясь в бледную кожу, и наконец исчезает, чуть-чуть не дотянув до виска.
— Все хорошо, папа, — беззвучно говорю я. — Все будет хорошо, — я опять тянусь к кнопке вызова, в панике снова и снова жму на нее, — только оставайся со мной — сейчас кто-нибудь придет.
Я не успел еще договорить, а веки отца уже снова начали опускаться, а белки закатываться.
— Папа! — кричу я, но глаза его снова закрыты, и таким его застают вбегающие в палату сестры.
Вскоре появляется доктор Кранцлер, молодой усталый врач-стажер; он просматривает сложенные рулоны распечаток из аппарата ЭКГ, и особого впечатления они на него не производят. Он задает мне несколько вопросов, но брови его так ни разу и не меняют своего скептического положения.
— Я вовсе не хочу сказать, что вы ничего не видели, — хотя совершенно очевидно, что именно на это он и намекает, — но все графики оставались без изменений. Кроме того, вы утверждаете, что перед этим спали.
— Какое это имеет значение?!
Он снисходительно улыбается и трет глаза.
— Принимая во внимание монотонность ожидания и общий эмоциональный стресс, в котором вы находитесь, нельзя исключить, что вам приснилось, как он открыл глаза, или же просто примерещилось. На самом деле такие случаи не редки.
— Я точно знаю, что я видел, — говорю я разгоряченно.
— Хорошо, — произносит он надменно и идет к двери, — тогда позовите меня, когда снова это увидите.
Я звоню Брэду на мобильник, и он появляется через двадцать минут, едва дыша, несмотря на то, что я несколько раз повторил, что медицина не подтверждает моих наблюдений. Он пристально смотрит на меня, пока я снова пересказываю ему всю историю, хмуря брови и раздраженно качая головой.
— Почему ты сразу не сходил за врачом?
— Я вызвал сестру, — оправдываюсь уже в который раз. — Я боялся его оставить.
— Ты с ним говорил?
— Да.
— Он подавал какие-нибудь признаки того, что понимает, что происходит?
— Кажется, он все более-менее осознавал.
Я ничего не говорю о той одинокой слезе. Я все еще прокручиваю этот эпизод на периферии сознания, и он кажется мне очень личным, чем-то, о чем должны знать только я и отец. Кроме того, я начинаю раздражаться. Брэд, похоже, совершенно убежден, что, будь он тут, все могло бы быть по-другому, как будто отец вторично ускользнул от нас из-за того, что я не смог повести себя как хороший сын.
— Послушай, — говорю я, — он открыл глаза, а потом закрыл. Все! У меня не было времени что-либо предпринять.