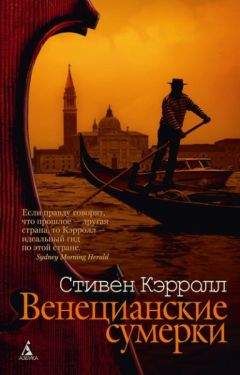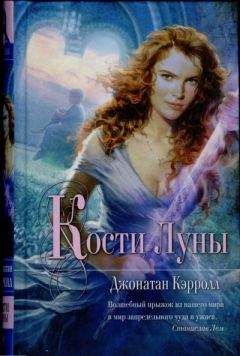Что это было? В самом деле — что? Люси исполнилось двадцать три, и впервые с самого приезда она позволила себе об этом забыть: играть дурацкие поп-песенки — впрочем, в конце концов, не такие уж и дурацкие. Когда, вдруг спросила она себя, когда в последний раз мне было так весело? Годы, приведшие ее сюда, десяток лет — от тринадцати до двадцати трех, — состояли, как ей представилось, из сплошной работы — бесконечных часов и дней, проведенных за упражнениями, и ей показалось, что они прошли впустую. На все это время она забыла жить — и это странно.
За час они вновь просмотрели свой репертуар и решили на следующий день прогнать всю программу. Не составит труда, улыбнулся Марко. В конце концов, это всего лишь дурацкая попса. Люси рассмеялась и вышла.
Простившись с Люси, Марко посерьезнел. Люси нервничала, была рассеянной, печальной. Непохожей на себя. Не может определиться, подумал Марко. Он проследил в окно, как она широкими шагами пересекала площадь, и с полуулыбкой отметил про себя, что рост у нее по крайней мере не маленький. Вернулся к столу: своей комнате, виду из окна, ярким, летним цветам, нотным листам, рассыпанным по полу, фортепьяно: все это было частью совместного утра, уже прошедшего, и потому от всего этого веяло прошлым.
Несуразные дома, магазины, кафе, гостиницы и общественные учреждения с несуразными проявлениями жизни внутри — все это проплывало мимо Фортуни, как картины на стенах галереи, пока он пробирался узкими, путаными улочками Сан-Поло. Ссорились дети, переругивались туристы, торчали в дверях или читали на солнцепеке учащиеся. Все это было не важно. По крайней мере, для Фортуни. Фортуни влюбился.
Впервые за год он проснулся тем утром, не спрашивая себя: «Как самочувствие?» или «Чем заполнить день?» С тех пор как он перестал быть артистом Паоло Фортуни, маэстро Фортуни, это был вопрос, которым он задавался каждое утро: чем заполнить череду дней? Нежданная любовь окрылила его, вознесла над всеми этими материями. Любовь, чудодейственное схождение разрозненных половинок, стала единственным ответом, когда-либо полученным Фортуни, и эффект этих чар был моментален. И когда он остановился на небольшом мостике сориентироваться и выбрать правильное направление, его душу согрело сознание, что Люси находится где-то рядом, не более чем в миле.
Событие следовало достойно отметить, но загвоздка состояла в том, что в единственном заведении, подходящем для подобного празднования, все столики были забронированы. Уму непостижимо! Тем утром Фортуни первым делом велел Розе заказать столик, но тотчас услышал, что для синьора Фортуни и его гостьи места не нашлось. Во всяком случае, на сегодняшний вечер, и на следующий тоже. Он предположил, что, разумеется, произошла какая-то ошибка, и решил сам все уладить.
Фортуни сошел с мостика, прокладывая путь через запруженный народом переулок, и наконец постучал в стеклянные двери ресторана. Персонал держался доброжелательно, рассыпался в извинениях, но ошибки не было. Просто свободных столиков сегодня вечером не ожидалось. Синьор Фортуни обедал здесь последний раз в прошлом году, и с тех пор времена изменились. Ныне ресторан приобрел широкую известность, и синьор Фортуни, конечно же, понимает, что из этого следует. Заказы от постоянных посетителей поступают заранее — случается, даже из Нью-Йорка.
Ситуация выглядела безнадежно, пока Фортуни не рискнул предположить, что можно освободить немного места рядом с баром, где теперь стоит тележка для десерта. Маленький столик как раз впишется, разве не так? Разумеется, просьба была необычной, но неужели же нельзя сделать это если не в деловых интересах, то хотя бы в память о былых временах?
Владелец поднял брови и поглядел на метрдотеля, который пожал плечами и — рикошетом — вернул проблему владельцу. Настала тишина, Фортуни полез было за бумажником, чтобы вытащить пачку крупных купюр, но владелец остановил его.
— Пожалуйста, — пробормотал он, отстраняя деньги, — синьор Фортуни, пожалуйста.
Затем, поманив официанта, отдал ему соответствующие распоряжения, и Фортуни собственными глазами проследил за тем, как столик на двоих водрузился точно на предложенном им месте. Когда дело было сделано, владелец улыбнулся и поклонился Фортуни и тот поклонился в ответ. Итак, столик для синьора и его гостя будет. Как сейчас, так и всегда…
На обратном пути, не обращая внимания на толпы, Фортуни с наслаждением вдыхал летний воздух и мысленно выбирал костюм, который наденет сегодня вечером.
В конце концов, мир еще не окончательно выдохся, мир не так устал, чтобы не расщедриться еще на одно, последнее чудо. Оставив позади Кампо Сан-Поло, Фортуни подумал, что и в шестьдесят три не только заслуживает даров любви, но и сам способен эти дары преподносить. Ему даже пришло в голову, что, пожалуй, впервые влюбился по-настоящему.
Дома, в гостиной, его глаза вспыхнули при виде виолончели и остановились на ней, но не с сожалением и не с чувством внутренней опустошенности, как бывало в последнее время. Нет, тем утром, заметив виолончель, он вновь почувствовал себя молодым. Он вновь выступал перед публикой; вновь стал тем Фортуни, который много лет назад, жарким римским летом, уставил задумчивый взгляд в глазок фотокамеры. Стоял на сцене, дыша разреженным воздухом, наслаждаясь установившейся в зале тишиной. Ибо стоять на сцене концертного зала со смычком в руке было все равно что стоять на вершине горы и озирать расстилающийся внизу пейзаж — ряды слушателей. Ему даже не нужно было открывать глаза — он и без того знал, что слушатели там. Он чувствовал их, насторожившихся, выжидающих. А затем звук вдруг выплывал из-под смычка, срывался со струн виолончели Фортуни — единственный звук на земле, не считая негромких вздохов напряжения, слышных только ему самому, да легкой подпевки, которая иногда проскальзывала и порой замечалась даже на пластинках.
В тот вечер, двадцать лет назад в Риме, после первого концерта триумфального сезона, когда каждый на свой лад расточал ему похвалы, он полностью владел аудиторией, как и всегда в ту пору. Сейчас он вспоминал это чувство поразительно живо. Вспомнил, как был уверен в своей власти с того самого мгновения, когда исполнил на публике первую из тех басовых нот, что вскоре его прославили, и как притих весь зал, не просто слушая концерт, а присутствуя при особом событии. И заставила слушателей притихнуть в первую очередь энергия, физическая сила, всепобеждающая воля исполнителя, ибо, с точки зрения Фортуни, концерт прежде всего давал возможность навязать слушателям свое «я». Воля, энергия, сила и нечто сверх того, чем больше не располагал никто. Все это уверенно передавалось рукам, от кончиков пальцев — струнам, чтобы сотворить печальнейшую на свете музыку, которая повергала зал в неподвижность и молчание.
Таким был Фортуни в те годы — Фортуни, который принимал эту дань молчания, не знал, что такое нервы, собирал себя в кулак и заставлял зал умолкнуть. И лишь ощутив это молчание, убедившись в своей победе, он признавал концерт успешным. И капли пота падали с его лба, когда он тряс головой, и его голос часто подпевал виолончели, и женщины в первых рядах вздрагивали, словно задетые ударом смычка. Таким был Фортуни в те годы, и отчасти этим он покорял мир, равно как фокусами (которые теперь передавал Люси), ухищрениями, пассажами и движениями, исполнявшимися столь быстро и легко, что можно было подумать, они не требуют усилий. И по сути, так оно и было.
Фортуни, здесь и сейчас стоящий в своей гостиной, но одновременно пребывающий на той сцене в Риме, слушает, как угасает последняя нота того концерта; рубашка его пропитана потом, мозг и тело опустошены. Он вскидывает голову и ловит ухом внезапный океанический гул оваций, которым взрывается тишина. И, вспоминая, как погружался в эти овации, понимает, что никогда не ощущал жизнь так полно, как в подобные мгновения.
Вернувшись домой, Люси вновь услышала низкие, гортанные звуки утраченного языка, который Фортуни вернул себе накануне ночью. Днем этот язык представлялся материей чужих воспоминаний, чужого сна, но когда подступил вечер, она опять ощутила его притягательную силу. Притяжение странного, первобытного звука, который, казалось, выбрался потихоньку из какого-то позабытого закоулка истории специально для нее. А с языком явился и голос Фортуни. Рокочущий, едва ли не гремящий, как его низкие ноты и резкие удары смычка.
И пока она заново переживала эти ощущения, перед ней мелькнула та, другая Люси, ведь ее могла и потопить накатывавшая на нее волна под именем Фортуни. Стоит волне накрыть ее и обрушиться всей тяжестью, она снова — навсегда — превратится в ту, другую Люси, живущую в тени Фортуни, поглощенную домом Фортуни, постепенно теряющую себя во множестве коридоров и комнат, что ведут в соседние комнаты, а те — в следующие, и каждая из комнат наблюдала век за веком появление юных невест и любовниц; они входили в дом и склонялись перед его волей и в конце концов забывали, кем были когда-то. А чем она лучше? Что если она сделается его вечной спутницей, вечной дублершей, юной любовницей, наполнит своим смехом дом, где давно не звучали молодые голоса, и заживет чужой жизнью, и позабудет, кем была когда-то? Это было мгновенное видение, мелькнувшее перед ней, предчувствие того, что могло бы случиться…