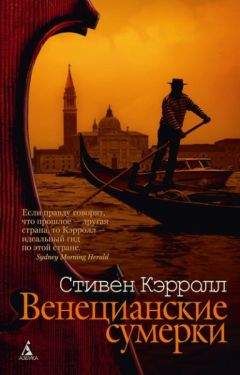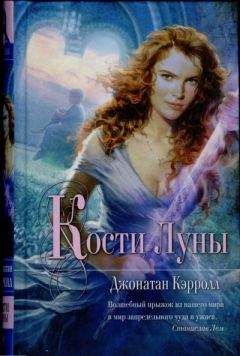И пока она заново переживала эти ощущения, перед ней мелькнула та, другая Люси, ведь ее могла и потопить накатывавшая на нее волна под именем Фортуни. Стоит волне накрыть ее и обрушиться всей тяжестью, она снова — навсегда — превратится в ту, другую Люси, живущую в тени Фортуни, поглощенную домом Фортуни, постепенно теряющую себя во множестве коридоров и комнат, что ведут в соседние комнаты, а те — в следующие, и каждая из комнат наблюдала век за веком появление юных невест и любовниц; они входили в дом и склонялись перед его волей и в конце концов забывали, кем были когда-то. А чем она лучше? Что если она сделается его вечной спутницей, вечной дублершей, юной любовницей, наполнит своим смехом дом, где давно не звучали молодые голоса, и заживет чужой жизнью, и позабудет, кем была когда-то? Это было мгновенное видение, мелькнувшее перед ней, предчувствие того, что могло бы случиться…
Могло, но должно ли? Сейчас она видела другую Люси: слишком молодую, чтобы трусить, умную, не такую, как эта долгая череда жен и любовниц, вступавших в дом молодыми и старившихся в его стенах. Да, она увидела другую Люси, более мудрую и сильную, не обреченную брести по старым следам, способную одолеть всех Фортуни на свете, хотя бы и желая их при этом; Люси, которая могла нарушить железные законы истории, обнаружив и разложив на составные части силы, повелевавшие ими. Эта Люси найдет свой путь и никогда не забудет, кем она была, потому что прошлое миновало.
Но за какой Люси последовать? В реальном мире, где жизни проживают, а не прокручивают в мыслях, можно выбрать лишь одну жизнь, и проживешь ты ее окончательно, без пробного варианта. В жизни не бывает предварительных просмотров, нет способа узнать, что с тобой может случиться и каково тебе придется при том или ином развитии событий. Одно-единственное решение может определить всю жизнь, как может ее определить услышанная однажды мелодия.
Люси накинула на себя темно-красное платье, покроем, цветом, гладкостью материала отличное от всего, что она носила прежде. В первый раз оно оказалось на ней потому, что Фортуни завернул ее в это одеяние, прежде чем она успела понять, что происходит. Но теперь она понимала. Разглядывая тени на стене по ту сторону улицы, белье на веревках, старую даму в окне напротив, Люси вновь ощутила притяжение того странного печального языка и не сомневалась в том, что он пересек океаны, пространства и годы, просто чтобы быть здесь.
Это был маленький, но, как объяснил Фортуни, знаменитый ресторанчик. И те, кто здесь обедал, были знаменитостями: Фортуни указал на заднюю стену, где рядком висели фотографии знаменитостей в рамочках. Разумеется, среди них был и он, задумчивый Фортуни, сфотографированный, теперь Люси знала это, жарким, провоцирующим раздражительность летним утром 1962 года.
Как только они прибыли, он представил ее хозяину и метрдотелю, к которым запросто обращался по именам. Вот, сказал он, это Лючия, и они улыбнулись. По его поведению они могли догадаться, что он счастлив и обязан этим своей спутнице, синьорине Лючии. Люси сделалось немного неловко, оттого что ее не столько представляют, сколько выставляют напоказ, и все же приятно. Ей вспомнилось, как держали себя бизнесмены средних лет на многолюдных приемах у нее дома, когда гордо представляли собравшимся своих молодых жен. Да, подумала она, Фортуни ею похваляется, как те похвалялись своими хорошенькими молодыми женами. Красотка, почудился ей голос школьной подруги Салли Хэппер, красотка выходит замуж за денежный мешок, и у них рождаются красивые детки.
Сейчас Фортуни суетился, занятый исключительно Люси. И возможно, задумалась она, в этом суть всего. Он счастлив — что тут еще скажешь? Нравится ли ей вино? А столик? Риторические вопросы, все это не могло не нравиться, и Фортуни практически не ждал ответов. Ресторан, продолжал он, оставался в безвестности долгие годы, пока какой-то американский журналист не написал о нем в «Нью-Йорк таймс». Теперь приходится заказывать столик самое меньшее за неделю.
Собственно, когда Фортуни в тот день позвонил Люси с вопросом, как она спала, и сообщил, что спал сном младенца, он, помимо прочего, похвалился тем, что сумел организовать свободный столик в особом ресторане; сказал, как им посчастливилось, поскольку заведение такое знаменитое, такое популярное. Но, добавил он с журчащим смехом, произволением свыше столик для них все же отыскался. Под ритмы ча-ча-ча из «Прогулки слоненка», по-прежнему звучавшие в ушах, она приняла приглашение, но, повесив трубку и ощутив на языке слабый привкус вчерашней граппы, усомнилась в том, что поступила правильно.
И вот теперь он суетился, не замечая того, что привлекает к себе и своей спутнице любопытные взгляды, потому что думал только о Люси. Заказать для нее что-нибудь еще? Тут подают замечательный колумбийский кофе. Торт? Миндальное печенье? Нет, она ничего больше не хочет.
— Ну ладно. — Фортуни сделал глоток. — Роза приготовила нам вафли и вино. — С этими словами он решительно поставил пустой бокал, недвусмысленно давая понять, что дальнейшее течение вечера — дело решенное. Решенное не кем-то. День просто сложился сам по себе. А теперь, что в порядке вещей, их ожидают вино и вафли.
Туфли Люси застучали по мраморному полу тускло освещенного portego. Поначалу она заглянула в гостиную, рассчитывая найти там шоколад, вафли и вино, но Фортуни, не говоря ни слова, взял ее за руку и повел по portego вдоль ряда семейных портретов, которые в скудном освещении вдруг показались Люси мрачными. Дойдя до конца portego, они свернули в малую гостиную, где Люси узнала мутное зеркало в золоченой раме, в котором однажды подсмотрела отражение Фортуни, подражавшего Фортуни. Она уставилась на лазурный потолок, с обычной росписью из игривых ангелочков и херувимов, но тут Фортуни повернул ее, тронув за плечо, и перед ней оказался ряд распахнутых дверей. Две двери, три, четыре — и тусклое пятно света на ковре, явно в спальне Фортуни.
Ломая голову над тем, откуда могло взяться место для всех этих комнат, Люси последовала за белопиджачной спиной хозяина через анфиладу едва отличавшихся одна от другой комнат. И все это время ее не покидало тревожное чувство, что она вписывается в некий заранее определенный план, который включает в себя и этот небольшой ритуал, и возможные другие — большие, маленькие и совсем незаметные. Одновременно она сознавала, что так могут пройти не только ночи, но и годы и мимолетный плод воображения — непрожитая жизнь молодой женщины, забывшей, кем она была, — станет реальностью. И все же на протяжении всех сорока — или около того — метров пути она не сводила глаз с открытой последней двери. Миновав еще одну небольшую гостиную, чайную комнату и наконец бывшую спальню покойной матери Фортуни, они добрались до спальни самого хозяина.
Комнату освещали два неярких светильника в противоположных углах. Из мебели имелись туалетный столик с большим овальным зеркалом, маленький сервировочный столик и — рядом со светильником — письменный стол. Фортуни набросил пальто на спинку кресла и мимоходом притронулся к сервировочному столику, на котором Роза действительно оставила вино и вафли.
— Милая, милая Роза. — Фортуни хлопнул в ладоши и небрежным движением поднес бутылку Люси для оценки.
Люси взглянула лишь краем глаза. Обстановка этой небольшой комнаты оказалась не столь пышной, как можно было бы ожидать, — впрочем, Люси об этом прежде не задумывалась. Окна были плотно закрыты и целиком задернуты золотистыми шторами, длинные, окаймленные золотом драпировки свисали со стен. Высокую переднюю спинку кровати в стиле рококо украшала помещенная в центр небольшая камея с ликом Мадонны, на самой кровати были разложены раззолоченные подушки и золотистое стеганое одеяло. Кругом золото.
Ночевать в спальне Фортуни значило упрятать себя в изолированное, изъятое из времени обиталище, где творились века семейной истории, где рождались на свет и умирали многочисленные отпрыски рода. Ощущение внешнего мира терялось в этой комнате. Ни общества, ни истории, не относящейся к семейству, здесь не существовало. Сюда не вторгались посторонние звуки, за исключением разве что шума речного такси. Войти в эту комнату означало вступить в затерянный уголок имперского века, заповедный оплот, последние дни и ночи которого истаивали сейчас, прямо на глазах у Люси, выцветая, как заключительные секунды яркого сна.
Фортуни закрыл дверь, плотно прижав ее к мраморной раме, и на время оставил за ее пределами безжалостный, всепроникающий мир; на время отсрочил наступление того дня, когда через эту самую дверь войдут туристы, чтобы с изумлением, ухмылкой или скукой гадать о том, что представляла собой жизнь здешних обитателей.
Фортуни вновь поднес бутылку Люси, и на этот раз она кивнула, следя за тем, как он наполняет ее бокал пузырящимся просекко. Воздух в спальне был теплый, спертый, и Люси очень захотелось распахнуть окна. В покойной торжественности этой комнаты она вдруг сбросила сандалии и, одним глотком опустошив свой бокал, снова протянула его Фортуни, который налил еще, с завороженной улыбкой, мелкими глоточками прихлебывая из своего. Люси заметила, что это игристое вино воодушевляет и бодрит, как бодрило ее в юности на австралийских пляжах нырянье со скалы в пенистые волны. Поставив бокал, она взъерошила пальцами волосы Фортуни. Лицо его едва виднелось в полумраке, глаза скрывала тень, и он снова был ее Фортуни. Захотелось забыть о приличиях, и она, стянув с себя платье, швырнула на пол его, а вскоре и нижнее белье, которое, к восторгу Фортуни, как птица, затрепыхалось в воздухе.