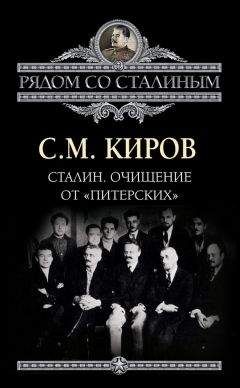– Слышь, Анна, – буркнул Вовка.
– Чего?
– Ты матери-то… Не говори. Угу?
И кухня осветилась Аннушкиной улыбкой, пробившейся на ее пятидесятилетнем лице сквозь овраги морщин.
3
– Так вот и сказал, – вспоминала Анна, сидя за тем же столом через шестнадцать лет. – А больше я его, почитай, и не видела. Раз приезжала, дак он в армии служил. Другой – тоже где-то был. Да и третий… Не видела почему-то.
– Ой, армия, – махнула рукой Шура. – Он ведь у меня надежа и опора. Закон есть, чтоб таких не призывать. Пошла я к военкому. Так, мол, и так. А он мужик хороший, сосед наш через два дома. Слушал меня, слушал, а потом и говорит: «Шура, не пиши ты этой бумаги. Пусть призовется. Хоть два года поживешь нормально».
– А когда ты другомя приезжала, – подхватила Муся, – мы его уж лечиться отправили. Ага. Через милицию. Эл-тэ-пэ такое было. Он через два месяца домой заявился. И десять бутылок белого с собой привез!
– А чего Аннушка его третий-то раз не видела? – пожала плечами Шура.
– А вот чего, – кивнула Муська. – Он тебя тогда взял моду из дому выгонять. Когда одну, когда и со мной. Выгонит… Потом пойдет на улицу. На него девки-то уж нормальные не смотрели, дак он зацепит шлюху да и тащит ее домой.
– Да! – горестно вздохнула Шура.
– Вот. Тут слышу: идет. А ты, Аннушка, отдыхать с дороги улеглась, в зале похрапывала. Я скорей на площадку выскочила. Он уж рот открыл, а я ему: «Ш-ш! Тетка Аня спит». Вовка: «А-а, тетя Аня спит…» Смолк сразу, прошел на цыпочках к себе да и проспал до утра. Так ведь, Шура?
– Так, так, – закивала Мусина сестра. – А только с раннего с ранья убежал куда-то – и ведь не показывался больше, пока ты, Аннушка не уехала. А потом чище прежнего!
– Да, – вздохнула Аннушка и поправила на голове черный платок. – Двадцать пять лет.
– Печень, говорят, вся разложилась, – вздохнула и Муська, а Шура пару раз протяжно всхлипнула.
– Вы уж простите мне Бога ради, что на похороны не приехала, – перекрестилась Анна. – Вены мне на ногах вырезали, в больнице лежала.
– Да что ты, – обняла Анну Шура. – Сороковины-то, сама ведь знаешь, тоже какой день.
– Спать ложитесь, – скомандовала Муся. – Завтра намаетесь. Посуду сама сполосну.
Анна, как всегда, осталась в зале, на диване. Шура убрела в свою комнату. Двери в комнату Вовки были плотно прикрыты.
– Эх, одна квартира от мужика и осталась теперь, – вздохнула Шура за стенкой и тихонько заплакала.
Муся сердито загремела посудой. Анна промолчала.
– А вот что, – сказала Муся сама себе минут через десять. – Оботру-ка я пол. Когда они завтра обтереть сподобятся. Пока кладбище, пока то да се.
К полуночи прихожая не блестела, конечно, но приобрела вполне даже товарный вид.
– Молодец, Мусенька, – похвалила Вовкина тетка сама себя. – Доброе дело сделала. Этим только, наверное, заснуть не дала.
Но из залы неслось ровное похрапывание. В спальне затихли всхлипы. И Муся успокоилась. В этот-то момент и раздался звонок в дверь.
Наученная горьким опытом «горгаза», Муся не спешила ее открывать и даже смотреть в щелочку.
– Кто? – спросила она, тщетно пытаясь разглядеть хоть что-то в замочную скважину.
– Муська! – раздался в ответ глухой голос, от которого Вовкина тетка в раз онемела и обезножела. – Я нашел свое место. Спите спокойно.
Звоня ему, раз через раз я задавал один и тот же вопрос:
– Ну как, сколько «никчемных жизней» ты спас за смену?
С неизменной иронией он отвечал, что, мол, две, или одну, или спокойно проспал всю ночь на диванчике в ординаторской.
Вообще двадцать лет дежурств в отделении реанимации отшлифовали его характер.
– Ты циник, – бросил я как-то в сердцах при встрече с ним.
Он пожал плечами.
– А у нас нециники помирают быстро. Почитай, на том свете работаем.
Словно в подтверждение своих слов, он рассказывал о том, что пальцы ног при сильном обморожении обламываются, как плитка шоколада, а сердце или печень бомжа можно безо всяких усилий проткнуть пальцем.
Впрочем, справедливости ради надо сказать, что в спальне на стене у него висел довольно неуклюжий рисунок, выполненный цветными карандашами. Подарок от благодарного пациента. Художнику тогда было года три от роду. Сейчас уже, наверное, в школу ходит.
Однажды я гостил у него неделю. Он холостяковал. Жена с сыном поехали навестить родню. Днем, пока он работал, я гулял по набережной, толкался в книжных магазинах, знакомился с красивыми девушками. Вечерами мы с ним смаковали пиво с креветками и шутили о жизни. Именно так. Шутили о жизни.
Накануне моего отъезда он заявился домой вдатый и какой-то слишком уж развеселый. За стол не сел. Шатался по квартире, щелкал лентяйкой в поисках неизвестно чего на телеэкране, протяжно зевал, потом с отвращением уткнулся в какой-то медицинский журнал. Читая, оттопыривал нижнюю губу и вообще кривлялся.
– Ложись давай, – буркнул я, чувствуя, что с ним творится неладное. – Выспись. Сам до вокзала доеду. Чай не десять лет.
– Не-ет, – дурашливо протянул он, – я с тобо-ой…
На перроне мы все-таки тяпнули по пиву.
– Чего такой? – осторожно поинтересовался я.
– А! – отмахнулся он.
– Колись давай.
Он так ничего и не рассказал бы, но поезд опаздывал на полчаса.
– Парня привезли два дня назад. Вылитый младший брат. Помнишь, я вас тогда знакомил? ДТП. Черепно-мозговая. Все: и откачали, и в сознание пришел вчера. Я как раз обход делал. «Как звать-то?» – спрашиваю. «Санек». И звать так же, как брата. Я ему сказал об этом. Он почему-то обрадовался. Про мотоцикл свой спросил. «Я на гитаре, – говорит, – играю. И альбом когда-нибудь запишу». Рокер, б… Такой же дурак, как мой младший. Пошел я сегодня на работу… Яблок ему взял. Прихожу – в палате дед лежит. «А где Сашка?» – спрашиваю. «В десять утра челюсть подвязали. Через час после вашего ухода». Так-то.
Кажется, он сразу пожалел о своей откровенности и, когда я садился в поезд, болтал о том, как выглядят люди при токсическом отравлении техническим спиртом, сравнивая их с персонажами итальянских сказок.
1
– А что, уважаемый, доводилось тебе когда-нибудь быть битым? Чтобы морда всмятку? Чтобы вместо носа – деревяха? Чтобы губы в заплатах? Чтобы в ушах звенело? Чтобы дышать больно? Нет? Тогда слушай. Ты ведь, кажется, трусоват?
Я, улыбнувшись, пожал плечами. Собеседник нравился мне все больше.
2
– …Пехоте за атаку х… в сраку, медсестре за п… красную звезду. Но это потом было. А тогда – кадр этот к летчику подскочил, РГД ему в харю – нна! «Если попытаешься взлететь без пацанов, взлетишь на тот свет!»
– Успели?
– Успе-ели! И ни одного двухсотого. Черти обдолбанные были, плохо стреляли.
– И того пацана, который всех спас, сослуживцы больше не трогали?
– Ну… пока летели, все ему «спасибо, братуха». А потом все равно зачморили.
3
– …Палач у жмура карманы проверил. Прикинь, яблоко нашел.
– Съел?
– Съел. Русский человек ваще не брезгливый.
4
Мой собеседник опрокинул в себя остатки водки из стакана и, поморщившись, наколол на алюминиевую вилку подозрительный какой-то огурчик с когда-то белой тарелки.
– Чего не пьешь? – с подозрением поинтересовался он у меня. – Пей! Живот у тебя большой, значит, тело свое любишь. Пить любишь, есть… Пей! Не стесняйся.
И он сделал широкий жест рукой, словно бы рюмочная, в которой мы стояли за одним столиком, была его вотчиной. Я отхлебнул из стакана мутноватый кофе.
– Или ты чего…
– Писатель, – честно признался я. – По делам здесь. Замерз, согреться зашел. А денег не то чтобы…
– А-а! – и стоящий напротив мужичок демонически засмеялся, откинув свою бородатую голову назад. – Дгаматугкг? Или про-заек? Тогда ладно еще. А то стихи я что-то не очень.
– Прозаик, – осторожно ответил я, поняв, что попадаю в сюжет.
– Школа с медалью, университет с красным дипломом, белый билет, все дела? – прищурившись, игриво процедил он.
Я опять кивнул, однако с некоторой опаской, потому что вехи моей социализации случайные знакомые и собеседники воспринимали по-разному.
– Ну и молодец. Не барское это дело топором махать! – неожиданно поддержал меня мой новый знакомый. – Погоди-ка… Раз пошла такая пьянка…
И он пошел к кассе за водкой.
– Я так думаю. Ты – хлипковатый и трусоватый интеллигентик, – продолжил он, быстро вернувшись, но не торопясь опорожнить стакан. – Даже не прочитав ни одного твоего романа…
– Я рассказы пишу, – осторожно поправил я.
– …рассказа, я могу сказать, что эти самые рассказы твои – говно. Они о твоих внутренних метаниях, терзаниях… Короче, внутренняя мастурбация, от которой хочется блевать.
Странно, однако обидные, да просто оскорбительные слова чужого человека в камуфляжной куртке и таких же штанах (так выглядит теперь не только военная, но и рабочая одежда) не задевали меня и даже были мне интересны. Он говорил не зло. Как ни странно, он думал, что я нуждаюсь в помощи, и озадачился, каким образом лучше мне помочь.