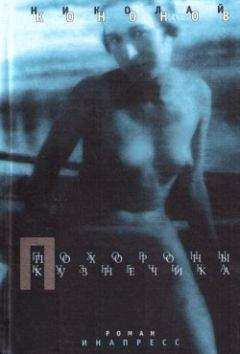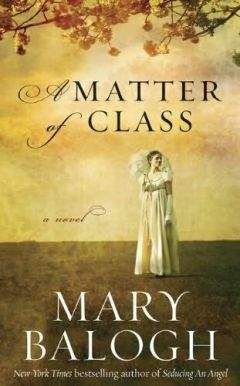Ночь не страшна.
Вся темная, выхваченная полной луной из какой-то мрачной пазухи жизнь – прикуривающие парни, передающие из рук в руки синюю бабочку огонька, словно надежду, припозднившаяся женщина, прижавшая театральную поблескивающую сумочку двумя руками к груди, как реликвию, старик в майке и пижамных шароварах со старой полысевшей собачкой на поводке (воплощенное одиночество), плотно завешаны глухотой перегретой за ночь листвы, этими недвижными южнорусскими вязами, тополями, липами и ясенями.
Высокие тополя.
По ним в детстве можно было забраться до неба и увидеть все ночные дворы с высоты. Стяги белья, их синеющую ночную капитуляцию. Деревья не способны шелестеть, они издают изредка какие-то сухие низкие шумы, но эти звуки не трогают сердца. Там тихо. Слух, как и взгляд, опускается куда-то вниз, ложась побитой пылью на едва шевелящийся мир, и возвращается в меня, не зацепив на своем пути ничего, кроме нищей наготы моих родных улиц, живущих по законам апатии, тупой ночной нескромности, когда стыдиться и бояться уже нечего.
Яркая полная луна усугубляет тишину.
Я прохожу этим маршрутом, я помню его наизусть, помню себя, бредущего транзитом от угла до угла квартала в густом лунном свете, как в сукровице, как в некой выжимке света дневного, когда он, дневной, осветив дорогие черты, вдруг исчез, оставив меня один на один с темными воспоминаниями о самых горьких и безрадостных часах, что я разделил когда-то с этими дворами, покосившимися воротами, щербатыми лавочками, выбоинами на дорогах, с вечным султаном пара над не закопанной бог знает сколько столетий оголенной теплотрассой; в темноте мне хочется говорить, держась за чью-то руку, ведь если это невозможно, придется погрузиться в одиночество, мрачность, в ровную, как этот лунный свет, скуку и меланхолию.
Я захожу в телефонную будку, разбередив лужу мочи на полу, подношу к уху трубку, у которой отломана половина, мне кажется, что я звоню тебе...
Но что я могу сказать тебе кроме того, что попал в аммиачный плен и сам усугубляю это дело, проливаясь собой, своей субстанцией в тот смрадный мир, где меня нет, глядя на увечный диск с темными неразличимыми цифрами...
Я проходил мимо низких темных сот жилья, их доверчиво распахнутых створок первого, почти земляного этажа трезвым, пьяным, влюбленным, опустошенным, обманутым, бодрым, усталым, мальчиком, подростком, юнцом.
Я помню все так цепко, что не помню, кажется, ничего.
И видимое не могу уже отличить от видимости и иллюзии.
Когда и куда исчез страх перед темным временем суток?
Он просочился, пылевидный, словно счастье, через устье песочных часов, когда мне не захотелось заступаться за пьяную чужую жену, побиваемую мужем и все-таки бегущую за ним, как собачка на невидимом поводке ругани.
Детская связь между страхом и долготой пути исчезла.
Я могу слоняться по ночному городу из конца в конец, замечая, что забрался в какую-то спящую пьяным сном уголовную глухомань лишь по стройному и мускулистому воздуху с вытатуированным смрадом горелого подсолнечника у маслобойного завода и потом, через еще какое-то время, по какофонии овощной гнили, вызывающей во мне рвотные позывы, вдруг застигая самого себя у Крытого рынка, в пяти минутах от моего старого дома.
На кучах арбузов спят бесформенные голоногие торговки.
Два чучмека рядом при лунном свете играют в нарды.
Пьяная тетка, охая, катит скрипучую детскую коляску с безобразным скарбом.
Город уныло и грузно, как-то одним боком, словно обмаравшийся паралитик со скользкой клеенчатой постели, сползает к реке, тупо повторяя дугу ее русла, парализованный почти до самых прибрежных пролежней ленивым усыпляющим течением, он редко прерывается членораздельными крутыми взвозами, что и посейчас хранят следы тягловой неблагодарной работы на измор, то есть до самой смерти...
Взвозы нечистой слизью текут к самой Волге: Соляной, Мучной, Провиантский...
Угол двухэтажного дома.
Это место впитало мой позор и вошедший в меня тихий липкий ужас потери, что я пережил здесь.
Это как в детском сне о падении в пропасть вслед за своей предстательной железой, несущейся на дно сновидения свинцовым грузилом, увлекая всю телесную массу спящего мальчика, переживающего иллюзорность неостановимого падения темным ужасом низины своего живота.
Сейчас-сейчас все оборвется...
Около этого угла осыпающегося дома – перед моими глазами до сих пор стоит рисунок набитых внакид на деревянную основу дранок – я испытал в юности первый крах любви, когда, не слушая резонных объяснений, не вникая в смысл изрекаемых в мой адрес слов, я вдруг услышал другим внутренним слухом гудение толщи всего необъяснимого языка, состоящего из смеси неприязни, презрения, жалости и тоски.
Эти драночки, словно рыбьи ребрышки проступившие теперь уже по всей плоскости облезлой стенки сквозь обвалившуюся чешую штукатурки, вопиют мне об этом.
На стене можно играть в крестики-нолики.
И проиграть в четыре хода.
И когда я прохожу мимо, они задевают во мне, проникая через зренье внутрь моей утробы, такую железу унижений и проигрыша, вбрасывающую в кровь горький гормон, – и вот кожа делается влажной, сердце начинает колотиться, мышцы сокращаются быстрее.
Мимо, мимо, скорей отсюда.
Прибавим шаг.
Здесь, в вытоптанном пыточном дворике, мы сидели с тобой, помнишь, обнявшись на лавочке, и я услышал, как в груди сорвавшимися курантами тренькнула пружина где-то под самым моим сердцем так громко, что с веток снялись воробьи, уже устроившиеся на ночлег.
А может быть, нас сфотографировали твои жуткие родители, и это щелкнул затвор «Зоркого»? (Бред.)
Я не слышал слов, что струями лились на меня из твоих уст тогда, под низкой шапкой вяза, словно конфетти, словно душ пыли, они летели как брызги, как прошлогодние семена; эти слова, сказанные тогда тобой, разлучившие и связавшие нас навсегда.
Ведь они были так тихи и точны.
Так ранящи.
Я так крепко и тайно заранее их все знал, что никогда самому себе не говорил, они были как не сфокусированные фотообъективом близкие предметы, расплывчатые и зыбкие, – пена, пузыри, мусор, следы, пятна, мутно загораживающие все.
Я помню свои давние мысли, которые настигали меня потом, когда мы разошлись, не поцеловав друг друга, их я упорно думал, уходя от тебя, по бесконечно дурной, какой-то бессмысленно долгой и каторжной Чернышевской, – мысли о моем ничтожестве, о ничтожестве вообще, о том, что полна и полнокровна только моя-без-тебя внутренняя жизнь в памятном, обращенном в себя взоре, где-нет-тебя, полна и крепка до конечной утраты всего, что было у меня с тобой, до брезгливости к самому себе, до вспотевшей липкой эпидермы груди, спины и загривка.
Я помню, как догадался, что теперь внутри меня нет бессмертия и что я буду существовать, пока я живой, даже без тебя, мое существо, и эта мысль вызвала во мне взрыв тошноты, меня замутило, но по-другому, иначе, вовнутрь, в свои глубокие темно-розовые недра, в сумрачную каверну сознания или в свое розовое нутро, что я когда-то увидел в детстве.
Я почти бегом скатился, словно переполненный извилинами грецкий орех, по не помню какому из взвозов к самой Волге...
Там, отдышавшись, уже у воды я испытал муку, когда темнеет в глазах – когда вся моя жизнь, все потери, все то, что я потерял или только собирался потерять, огромной массой, словно из ниоткуда взявшаяся красная стена трамвая, само собой пришло в пылкое движение в сантиметре от меня.
И вот я все еще вижу перья пыли, следы кошмара, что не могут улечься в темной колее, так же как и в пазухе моей души, занятой зрелищем своего сдвинувшегося, обрушившегося внезапно страдания, чья причина безнадежно устарела и исчезла, может быть, десять лет назад.
Где вы все и ты...
Жесткие, жестокие инфантильные потери.
Спичечный коробок с живой мухой – он у самого уха...
Слышишь звук?
Ночь не создана для размышлений, она хороша для внезапных умозаключений, случайных, как решение задачи, для итогов, для осязания в себе несчастья как долгой серой муки, соразмерной с ходьбой по трем улицам к Волге.
Что это – «несчастье»?
Когда мы не счастливы.
Знаешь, я бы сжег твою фотографию.
Но ее у меня нет.
Луна высвечивает город, подчеркивая его уродство, черня и разделяя объекты и отбрасываемые ими тени, как свинцовые неподъемные мертвые шлейфы, на серебристый асфальт.
Все обобщено лишь идеей слепоты и темени.
Может быть, это из той поры, когда я мальчиком укладывал мертвого кузнечика или непонятный предметик в тесный, непроницаемый светом коробок и мог поклясться, что внутри в полной шоковой темноте свершалась невероятная сияющая пертурбация.
О, этого безусловного изменения, этого перехода, в который я так жарко верил, мгновение назад не было и в помине.
Но мне никогда, даже краем глаза, не хотелось проверить это, заглянуть туда, чтобы различить личину перемены.