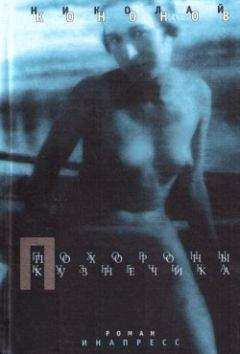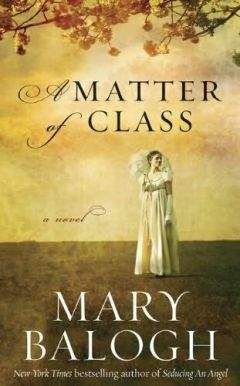Но мне никогда, даже краем глаза, не хотелось проверить это, заглянуть туда, чтобы различить личину перемены.
Я ведь еще не знал ее имени.
То, что я видел, то, что происходило, было некой тотальной изменчивостью, когда одно перетекает в другое, не обретая границы и меняясь далее. Во всяком случае я в этом участвовал, и это самое достоверное в череде ночи. Это был какой-то пластилиновый бред, мультфильм, где все беспрерывно лепилось из одного сумрачного жирного материала: забетонированный скат берега, зиккурат комбикормового завода, его куриная кислая вонь, хлюпанье замусоренной воды, большая татарская луна, смешанная с бестелесным светом фонарей, чьи-то тихий говор, возня и вскрики.
Так случается на последней стадии опьянения, когда я вот-вот свалюсь и весь окружающий сумбур входит в меня как еще один глоток алкоголя.
Невероятная жалость, которую я испытывал ко всему такому неживому, обреченному на еще большую погибель, говорила об ущербе этой реальности.
И как это все не пожалеть, ведь это единственное, что я могу достоверно питать к этому съезжающему в глухую воду ночному миру.
Я хочу всем и всему дать полезный совет, который неимоверно облегчит их такую темную участь.
Здесь, через подъездные пути, у военных складов, чуть выше, через улицу, – большая больница, в ее приемный покой папа отводил меня бог знает когда с разрезанной ладошкой, – и вот эта одетая в казенное платье (он в пижаме, она в халате) тихая парочка немолодых «ходячих» сластолюбцев, наверное, из кардиологического отделения.
Эти ночные тихони обнимаются, мирно чавкают помидорами и выпивают из небольшой баночки, наверное, портвейн.
Она кормит с рук, кажется, помидориной своего спутника, как зверюшку, едва смеясь.
Они мне очень хорошо видны, ведь я размазан, как ночной воздух, по всему в округе.
Снедь разложена на бумажке, словно на скатерке, на вбитом в берег металлическом лодочном бардачке.
Весь берег запаршивлен лодками.
И все освещено.
Луной и фонарями.
Они не спеша едят, перемежая еду и выпивку поцелуями. Потом она стелет на землю газеты, встает на четвереньки, а он также тихо и аккуратно задирает ей подол и наползает на нее сзади. Они как будто играют в паровозик, едва-едва шатаются, тихо пыхтя, – небольшие норные зверьки или полусонные ночные букашки.
Тетка жалуется: «Только вы не сильно, пожалуйста, ладно...»
Я хочу накапать им по пятнадцать капель корвалола, если бы у меня был с собой пузырек... Или украсть для них душную походную палатку с военного склада. Или отпереть каптерку. «В минуту страстного лобзанья». Мне очень хочется, чтобы эти сердечные доходяги кончили, изошли со стоном, повалились, крутясь, на скат берега, как в кино, я был бы тоже так счастлив.
Это был бы настоящий венец этой ночи – кардиологический апофеоз.
Он очень старается.
Вот-вот их сведет тусклая судорога.
Я припоминаю все свои разочарования и поражения.
И, кажется, заражаю их.
Как чумой.
На расстоянии.
Они антиподы этой ночи, города, зловония и моего краха.
Они утомленно и бессмысленно расползаются.
Дядька трет себе под фуфайкой грудь, там, где сердце. Никак не может отдышаться.
Вот они сидят в полуметре друг от друга, утратив всякий общий интерес.
Именно здесь была раньше переправа на Сазанку. У берега стоял полуутопленный в воде зеленый курятник дебаркадера. К нему вели низкие шатучие сходни, хлюпая, они зачерпывали фартуки зеленой воды. Бабушка ни под каким предлогом не признавала никаких других мест отдохновения в саратовских окрестностях, кроме Сазанки. Пока этот пляж не прикрыли – песок стал наполовину состоять из битых бутылок и рыбьих костей.
Правее – мощный бетонный клык опоры. Он стоматологическим кошмаром выпирает из черной липкой воды в трех десятках метров от кромки берега. Словно из черной десны. На него ничего, кроме твердого времени ночи, не опирается. Наверху корона – будто после взрыва какие-то металлические фрагменты, не соединенные ни с чем.
Что может обещать эта жизнь?
Тахикардию хлюпающей воды?
Сердечную растраву душного куриного воздуха?
Травму головного мозга, как вот этому голому безрассудному ныряльщику.
И этого обещанья много...
Я тоже раздеваюсь догола.
Меня охватывает, словно обруч, нехороший тихий азарт. Ком одежды прячу под брезентовый тент лодки и ловлю себя на том, что могу и не вспомнить позже это мусорное место. Остаюсь только в очках. Замечательная ночная одежда. Смоляная липкая вода оказывается теплой и легко проницаемой, и я плыву ровным бассейновым брассом в сторону плеска ныряльщика, заливая зренье смутной пленкой, словно слезами.
Под изувеченным небом в бинтах
туманностей.
В мире простых человеческих странностей.
Я очень хорошо плыву, на выдохе ныряя в косую антисанитарную воду.
(Я ведь переплывал когда-то Волгу, трясь о твой бочок, мой верткий пернатый нырок.)
Под этим же звездным небом. Мы чуть не попали под бесшумную нефтеналивную баржу. Но ты ничего не помнишь... Да и я, пожалуй.
Все мое прошлое схоронено под этой твердью.
Все мое умопомрачительное достояние.
Все нетленные мощи моих утраченных чувств и драгоценный хитин моих захороненных иллюзий, словно насекомых.
Весь мой колумбарий.
Вы все – кузнечики.
Я вас уже закопал. Опустил в нарядную мишуру забвенья.
И тебя?
И тебя.
Так тепло, что, когда поднимаешь руку, нельзя понять в воде, она еще или уже в воздухе. Все едино.
Почему я не могу дышать водой, как ихтиандр?
Я отчаянно кашляю, хлебнув ради пробы.
Я подплываю к железной лестнице, приваренной к быку. С приветствием: «Что, друг, духота, на хуй!» – меня опережает веселый подвыпивший купальщик, он плывет по-народному, крутя башкой из стороны в сторону, как штопором в бутылке, волжскими энергичными саженками, к скобкам металлической лестницы, выступающим из бетонной стены, как швы из раны. Они такие ржавые, что и мысленно к ним нельзя прикоснуться. Крякая, он схватывает ближние к воде и начинает подтягиваться вверх, как гимнаст. Я вижу его неширокие плечи, жилы напрягшейся узкой крестьянской спины, вижу его белый в свете береговых фонарей, будто фаянсовый, зад. Он по-звериному хватается за перекладины лестницы. Я ползу за ним, задирая голову, так как боюсь высоты. На меня капает вода с его тела. Я вижу его мокрые пятки, голени, тощие икры, свежий косой шрам на бедре, густые завитушки черных волос в прогалине белых ягодиц, отвислую мошонку с перекатывающимися ядрами. Почему-то мне кажется, что он очень, чересчур для этой ночи и этого черно-ржавого места живой. Он, с этим месивом между ног, с жалкой растительной порослью, – как напрасная нежная рассада на щебне этой ночной поры.
В нем есть какая-то изначальная высокопарность.
От этого образа нежности и незащищенности (в соматическом смысле) мне не отвести взора.
Я гляжу на пульсирующую и перекатывающуюся проницаемую вселенную его пола, возносящуюся прямо над моей головой, моим лицом, мерцающую, как и та, другая, что теряется в полной черноте настоящей выси, к которой я ползу вместе с ним.
Как Иаков по лестнице, собирающийся сразиться с ангелом.
Его крепкое, но все же жалкое тело в этом долгом подъеме на многометровую высоту (восемь, десять метров, пятнадцать?) выражало душевное борение – словно он отстаивал право на священное безрассудство.
На ничтожную оценку собственной жизни. И в этом жилистом вползании на стену я слышал внутренним слухом трепет его нервов. Он волновался. Будто вот-вот провалит этот экзамен. И это мне нравилось. Я даже заметил, как поджалась и уплотнилась его мошонка. Словно он стал мальчиком, испытывая себя этим экзаменом. То есть все произошло наоборот.
Словно пол его вовсе исчезнет, и он станет ангелом.
Значит, ему все-таки страшно.
Внизу сжималась и расходилась вода в рябой слизи берегового света. Гримасничая слепой поверхностью, не обращенной ни к кому. Что-то вроде угрозы. Беззубого оскала. Одинокого тусклого безумия.
Я представил, как падаю.
Эта пролетевшая во мне прекрасная картина моего падения, торжественная и романтическая, мгновенно насытила все телесное, гибельное и смертное во мне, всю мою тварную плоть, связанную с физическим страхом и болью, чувством тупой власти, мерой исполненной воли и привкусом отвращения.
И словно самолет в штопор, я вошел в унылое безразличие.
Будто я не должен больше жить. Так, лишь еще несколько секунд. Не более.
Будто больше и дальше этой тотальной ночи ничего не простирается и никогда не последует.
Она застигла меня, словно отец за мастурбацией.
Я с надеждой и безропотно жду беспощадного непомерного наказания.
И экзекутор не устанет возобновлять и длить его.
О!
И ничего не происходит.
Ночь застит все.
Словно это – кино, где я сопереживаю действию, сидя в уютной мякоти своего тела, как косточка в вишне, как паралитик в кресле перед телеком.