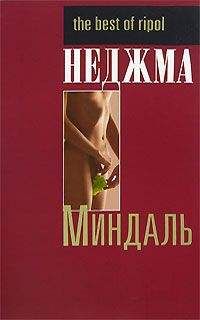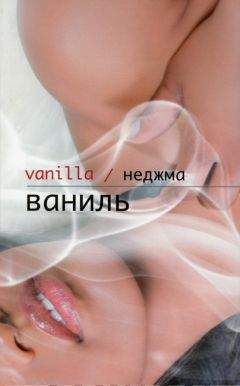Я развлекалась, как хотела, свободная и принадлежащая только себе. Те, кто считали себя господами моего тела, были лишь его инструментами, игрушками на один вечер, относительно крепкими спиртными напитками, лишь помогавшими скоротать ночь и обмануть докучную мигрень.
Четырнадцать лет я была дыркой. Дыркой, которая откликается, когда ее трогают. Не важно, продиктованы эти прикосновения любовью, желанием, кокаином или болезнью Паркинсона. Главное, что моя голова оставалась ни при чем, в другом мире, что она прокручивала давно умершие стихотворения, развлекала себя пошлыми анекдотами или подсчитывала бюджет на месяц. Бедная моя голова непременно должна была оставаться твердой, закрытой и целомудренной, пока тело-партнер, тело-наемник, тело-чужак вернется, переступит порог и снова погрузится в холодный пепел ночи.
Я кочевала из роскошных квартир в комнатушки при лавках разбогатевших торговцев, из глубоких уютных альковов в сомнительные закутки. Всякий раз, когда я входила к одному из любовников, на меня нападало удушье от закрытых дверей и заклеенных окон. Но я не могла распахнуть их настежь — ведь я боялась соседей, случайных прохожих, блюстителей нравственности, а еще больше — неожиданного прибытия уроженца моей деревни. У меня развилось необычайное чутье на потайные выходы, позволявшие быстро нырнуть в хитросплетение переулков, которые вели меня через медину маршрутом, столь же запутанным, как и мои приключения…
А еще я путешествовала. Я много путешествовала. Я повидала разные страны и узнала о разных нравах — за счет своих любовников.
* * *
Неизменная усталость. Неизменная скука. Я выгоняю мужчин одного за другим. Член, даже самый лучший, интересен мне, только если помогает достичь оргазма. Мне плевать, говорят мне о Насере[51] или о кровожадном ибн Юсефе.[52]
Мне плевать на политику, на генетику, на каноническое право и рыночную экономику. Мужчины болтают, а я прижимаю кончики пальцев к висками. Я жду, когда они истощат свой запас слов и станут трахать меня — долго, медленно, молча. Как только моя вагина перестает содрогаться от удовольствия, я поворачиваюсь спиной к тому, кто только что вызвал у меня оргазм. Мне плевать на маточную благодарность. Мне плевать как на посткоитальную нежность, так и на посткоитальную грусть. Я разрешаю своим любовникам только молчать, засыпать или уходить. Когда захлопывается дверь, я ликую. Я слушаю джаз или андалузскую гитару. После полуночи я не могу слушать арабские голоса — они режут меня, как нож. Арабы ранят меня, даже когда молчат. Они слишком близки мне, слишком прозрачны.
Я больше не считаю зацелованные рты, искусанные шеи, члены, которые я сосу, ягодицы, исцарапанные моими ногтями, — все это загромождает ящики моей памяти.
Члены, члены и члены… Толстые и ленивые. Маленькие и энергичные. Агрессивные и сладострастные. Неловкие и беспечные. Безумные, безвольные и мудрые. Нежные и циничные. Одержимые и лживые. Смуглые и белокожие. Даже одни желтый и два черных — просто от обжорства.
Некоторые заставляли меня плакать от удовольствия. Другие смешили. Один лишил меня дара речи — так смехотворно мал он был. Еще один походил на хобот, так он был велик. Моя вагина помнит обо всех, некоторых вспоминает с нежностью, но никогда — с благодарностью. Они только заплатили мне дань. К счастью, я уже давно оставила всякую мысль о мести. Иначе я бы отрезала все.
Сегодня, в ночи боли и морфина, Дрисс шепчет мне, не понимая непристойности признании: «Я люблю тебя. Я никогда не переставал тебя любить». Я это знаю, вот почему я старательно обрезаю розовые кусты в своем саду и кормлю кроликов в клетках.
Он сказал, что чуть глаза себе не выцарапал от угрызений совести. Он сказал, что порезал свой язык. Мой язык никому больше не мог сказать «я люблю тебя», кроме деревьев, черепах и бледных рассветов, которые поднимаются, когда я уже отчаиваюсь вновь увидеть свет и вновь услышать пение петуха. Он сказал, что пытался перерезать себе горло, но шрам остался на моей шее.
Когда я ушла от Дрисса, мое склеенное сердце вскоре распалось на куски. Отрекшись от его лица, я стала прозаичной — просто вагиной, доступной первому попавшемуся или почти первому, я отказывала любовникам в праве разделить мой сон, мою последнюю крепость, когда с пустяками будет покончено.
* * *
Тело других людей — это пустыня. Прошло несколько лет, и вот я всех путаю. Того, которого ублажала на берегах озера Констанс, и другого, который не смог меня взять во время круиза по Нилу. Того, которому я чуть не разорвала анус громадным искусственным членом, и другого, от которого я дважды беременела по неосторожности. Было время, когда я меняла любовников по сезонам. По одному на каждые три месяца. Мне так хотелось, чтобы кто-нибудь из них застрял в турникете, замедлил мотор, слишком мощный для моего тела. Мне хотелось встретить терпеливого мужчину. Такую терпеливую женщину, как я, впечатлить могут только люди, умеющие ждать. Но никто и не думал ждать, чтобы я успокоилась, взмыла на самую высокую ветку и начала щебетать. Мужчины слишком торопятся, они живут на запредельной скорости: жрут, суетятся, эякулируют, забывают. В этом они похожи на меня, и я не держу на них обиды.
Любопытно, что расколоть мою скорлупу попыталась лишь одна женщина: я и не знала, что она влюбилась в меня, еще не успев со мной переспать. Вафа в то время была моей соседкой по лестничной площадке в доме напротив кладбища. Часто по вечерам она курила, пила чай и слушала записи Бреля, подаренные мне Дриссом как раз перед разрывом. Моим горючим был неразбавленный виски, говорила я невнятно — меня слишком мучила рана, чтобы говорить, и я была слишком растерзана, чтобы попытаться составить фразу. Вафа ничего не просила — она не спускала с меня глаз, влюбленная дева, уже обольщенная, уже покинутая. Я забывала угостить ее ужином. Я забывала, что мне и самой нужно поужинать. Шли вечера, немые как могилы, она научилась готовить простые закуски, потом ходить по магазинам, потом заботиться об ужине, никогда не прося у меня ни гроша, ни совета. Она мыла посуду и вновь возвращалась к себе — в квартиру молодой вдовы, измученной одиночеством.
Потом она стала стирать мне белье, гладить платья и простыни, она превратилась в мою собачку, мой веник, мою служанку — за одно только право быть рядом. Воль лишила меня чувств, и я оказалась слепа к ее горю и ее безумию. Я не хотела принимать любовников у себя, часто выходила вечерами и, возвращаясь, видела, что у нее горит свет. Назавтра она встречала меня с землисто-бледным лицом, с кругами под глазами и горькой складкой у рта. Она знала Дрисса, догадывалась о цели моих ночных похождений, и не позволяла себе ни единого замечания о моем поведении. Она ждала, она подстерегала меня, она едва ли не подпрыгивала, когда я задевала се плечом или рассеянно касалась при ней своей груди. Это длилось два года. Ни разу она не откровенничала со мной по-женски. Но желание ее было таким шумным, что я будто слышала громыхание кастрюль, которые она тащила за собой из комнаты в комнату, ударяя о стены. Я решила молчать, наверное, от усталости. А может, из равнодушия. Того равнодушия, которое одолевает после тяжелых ожогов.
Однажды вечером, когда Танжер был придавлен к земле жарким ветром, тяжелым, как свинец, она подала мне крепкий виски, бесцельно прошлась по гостиной и вдруг положила ледяные руки на мои голые плечи. Я не пошевелилась.
— Ты знаешь…
— Нет, не знаю. Я не хочу знать.
— Бадра…
Она коснулась моей шеи легким поцелуем.
— Ты не знаешь, что ты делаешь.
— Как раз то, что я хочу сделать, с тех пор как тебя знаю.
— Ты меня не знаешь.
— Я тебя знаю больше, чем ты думаешь.
— Это ветер кружит тебе голову, и еще это, оттого что у тебя нет мужчины.
— Моя голова сейчас ясна как никогда.
— Уже поздно… Тебе пора спать, возвращайся домой. Она исчезла, а я осталась одна, вдыхая запах только что политых деревьев и запах жасмина, растущего на виду, как угрызения совести. Мне было грустно. Моего боевого духа больше не хватало на то, чтобы защищать Вафу от ее демонов, да и ОТ моих тоже. Как сказать ей, что я всего лишь мираж? Что меня не существует? Я знала, она требует любви, Которую я не могла ей дать. Для того и нужны прожитые годы: они оттачивают шестое чувство, которое сразу подсказывает вам, хочет ли вас тело, желает ли душа испить вас до самого дна. Я увидела в себе огромную жалость к Вафе, но в пустынном пейзаже моей души не было оазиса, где можно было укрыться, не было руки, которая поставила бы корзинку с финиками и кувшин с молоком к ее ногам.
Я не смогла сказать ей об этом, а она не сумела отказаться от своей мечты. Я не выставила ее из дому. Наши вечера, раньше казавшиеся мертвыми, налились тяжестью ее бесконечного обожания, не находившего выхода. Я научилась ее щадить, скрывая от ищущего взгляда самые невинные детали своего тела, надевая широкие платья, защищающие, как латы, избегая любой позы, которая могла быть истолкована как призыв. Она молчаливо держала меня в осаде. Я без единого слова противостояла ей. От этой тихой битвы воздух делался спертым, в нем повисала тоска о любви, леденящая камень, в который превратилось мое сердце.