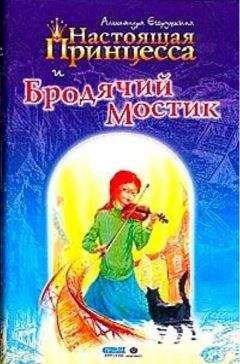– Из-за лба своей дочери?
– Нет, конечно, – я улыбнулся. – Очевидно, генетический код в их семье несет какие-то погрешности. У разных поколений это проявляется по-разному.
– И поэтому у него некрасивая дочь?
– В том числе.
Дина недоверчиво покачала головой.
– А на улице?
– Что на улице? – сказал я.
– На улице так много некрасивых людей. Неужели у них у всех плохая генетика?
– Тебя стали занимать абстрактные проблемы?
Мне захотелось съязвить, что прежде ее волновали только продукты, которые можно украсть, но в конце концов я промолчал. Ворованную колбасу мы ели все вместе. Ignorantia non est argumentum. Что в переводе на позднерусский означает «Меньше знаешь – все равно не дольше живешь».
– Нет, правда интересно, – сказала она.
– На самом деле, – вздохнул я, – это такое большое несчастье. На массовом уровне оно превращается в Великий Секрет Отсутствия Красоты. Все слова с больших букв. – Я прочертил в воздухе пальцем эти большие буквы. – Платон, в общем-то, намекал на это, но его мало кто понял. Просто считали идеалистом. Им так было легче.
– Кому?
– Некрасивым людям. Им надо как-то защищаться. Оправдывать свое житье-бытье. Вернее, нам.
– Нет, вы красивый, – она улыбнулась и покачала головой. – И Володька красивый тоже. Он в вас. Потому что Вера Андреевна… она такая… не очень красивая… А Володька у вас получился классный. На курсе все девчонки завидуют. Я его специально приводила туда. А он не понимал. Говорил – зачем ты мне назначаешь свидание у себя в институте?
Она откинула голову чуть назад и засмеялась.
– Нет, Вера Андреевна не некрасивая, – сказал я. – Просто секрет отсутствия красоты распадается на такие компактные персональные истории. Как запертые изнутри купе в поезде. Уютные, кстати. Особенно по вечерам. Лампочки в темноте светятся. Десятки тысяч историй. Все они прописаны в печальных тонах. И в каждом этом глухом купе с лампочкой сидит по одному грустному человеку. При этом все едут в одну сторону. То есть они, в общем-то, вместе, но каждый совершенно индивидуально грустит и хандрит, потому что думает, что он несчастлив. То есть у него не хватает того и того, и еще ему хочется этого. Но он всегда забывает о том, что у него уже есть. Всегда. Это такой закон. То, что ты получил, – оно сразу исчезло. Можно было и не стараться. Как дым.
Дина внимательно посмотрела на то, как я показываю руками дым, и покачала головой:
– Но правда ведь хочется чего-то еще. То, что есть, – этого всегда мало.
– Да нет же! – Я почему-то заволновался и даже вскочил на ноги. – Бог дает человеку так много, что на самом деле все, что нужно для счастья, – это лишь согласиться. Сказать – да, я согласен, я счастлив, у меня уже так много всего! Надо просто иметь силы, чтобы признать это. Господи! Ну неужели же непонятно?!!
– А вы? – сказала она.
– Что я?
– Вам ведь тоже всегда мало.
Прямо напротив меня на стене висело большое зеркало. Я постарался как можно быстрей отвернуться от Дины, но вдруг наткнулся на свой собственный взгляд.
Интересно, успела ли Горгона Медуза удивиться, когда увидела свое отражение в сверкающем щите грека? Черт бы побрал всех Персеев. Превращаюсь в камень.
Изучив таинственную жизнь минералов и не дождавшись ответа, Дина опять посмотрела на часы.
– Сейчас уже Володька придет. И Вера Андреевна. Вам пора уходить.
Я промолчал. Статуи не разговаривают.
– Вы не обижаетесь на него за то, что он вас из квартиры выгнал?
Она не испытывала к каменным истуканам ни малейшего сострадания. O tempora! O mores!
Таких, как она, нельзя подпускать к острову Пасхи. На пушечный выстрел. Нельзя подвергать нас такой опасности.
– Хотите, я принесу ваше пальто?
Нормальный акт вандализма. Осквернение памятников старины.
Потолстевший Дон Гуан превращается наполовину (верхнюю, разумеется, поскольку нижняя, по его гнусным расчетам, может ему еще пригодиться) в Каменного Гостя, вежливо прощается и уходит со сцены. Занавес. Зрители встают со своих мест и начинают неодобрительно кашлять.
* * *
Хитрые китайцы говорят, что Новый год – это не праздник, а просто такой момент в твоей жизни, когда чудо либо происходит, либо нет. Выходя из своей бывшей квартиры, в которой я навсегда оставил свое любимое кресло, я не испытывал к Новому году ни малейшего интереса.
Меня заботило чудо.
Такое, когда вдруг за окном – хлопьями снег, или неожиданно отпускает сердце. А ты еще не успел как следует испугаться, и от этого даже благодарность не смогла принять окончательные ровные очертания, а просто мелькнула и улетучилась как отброшенная после неспокойных снов скомканная простыня. И ты идешь на кухню за стаканом воды. Наслаждаясь тем, что ощущаешь под собой пол. И босые ноги.
Или садишься в трамвай и видишь знакомую девушку в красном пальто. И успеваешь подумать – о, Господи, это чудо. Только мальчика с зеленым ведерком на коленях у нее уже нет. Колени совершенно свободны. И у тебя почти не возникает мысль, что вот бы взять и занять это вакантное место. Ты просто смотришь на нее сверху, уцепившись за ледяной поручень, и размышляешь о чуде.
О том, что все на свете должно произойти дважды. И стать чудом от этого. Все должно произойти еще раз. Непременно. Рифма – основа чуда. А может быть, его причина.
Как эти ее колени. Обязательно два. Они должны были случиться два раза. Левое и правое. Отрифмовать друг друга сквозь плотную, непроницаемую для твоего взгляда ткань.
«Взглядонепроницаемые колготки. Артикул такой-то. Гарантия на столько-то мужских взглядов. От пылких взоров не воспламеняются. Рекомендуется использовать в непосредственной близости с одинокими, больными, брошенными профессорами. Быть может, им станет легче».
Последняя фраза набирается курсивом. Обычный шрифт не передает ни сослагательности, ни заключенной в ней иронии.
Да, все должно произойти еще раз. Как снег за окном. С первого раза вряд ли кто-нибудь разберет. Просто белые точки. А потом ты уже говоришь: «Смотрите – снег».
И слово становится больше, чем произнесенные тобой звуки. Оно волнует. Это и есть чудо.
Я ехал в промерзшем трамвае, разглядывая клубы пара, которые неподвижно висели у наших губ – у моих, у двух азербайджанцев на задней площадке, и у губ моей незнакомки в красном пальто. Азербайджанцы обсуждали, очевидно, торговлю, поэтому их пар был живой, клубящийся и иностранный. Девушка в красном пальто выдыхала совершенно московское облачко, в котором рассказывалось о мальчике с зеленым ведром. Мое дыхание тоже хранило кое-какие секреты, поэтому я начал его задерживать. Важно было, чтобы пар успел раствориться в трамвайном холоде прежде, чем я обновлю свое облако.
Когда закружилась голова, я решил сойти. Хотя до этого планировал ехать за красным пальто. До ее остановки. Что-то нас связывало. Иначе она не появилась бы во второй раз. К тому же Люба уже неделю собиралась в свою Америку, перекладывала старые вещи и целыми днями ворчала, что я путаюсь у нее под ногами.
А я не путался. Я просто переходил с того места, откуда она прогоняла меня, в какой-нибудь свободный угол и размышлял о том, где я буду жить после ее отъезда.
– Иди пить чай, – говорила она. – И не надо сидеть тут с таким потерянным видом.
– Это не потерянный вид, – отвечал я. – Это я думаю о Фолкнере. У меня завтра лекция на четвертом курсе. Очень талантливые студенты.
– Почти как твоя Наташа? – усмехалась она.
В общем, я не спешил к Любе домой. Может быть, именно по этой причине и затеял поездку к Головачеву. Чтобы не путаться у нее под ногами, пока она перебирает все эти кофты, блузки и свитера.
– Зачем они тебе в Америке?
– Отстань. Думаешь о своем Фолкнере – и думай.
Мои размышления о ритмической природе чуда Любу не волновали. Она собиралась в Америку.
Изо всех сил.
* * *
– Простите, Святослав Семенович, – сказал после лекции коренастый большеголовый студент, имени которого я не мог запомнить уже почти два семестра. – Все-таки не совсем понятна мысль Фолкнера о том, что прошлого не существует. Не могли бы вы пояснить?
Такие бывают. На курсе их обычно человека два-три. Стараются обратить внимание. Все правильно – сессия на носу.
Остальные гурьбой столпились у выхода. Толкаются и хихикают. Знают, что сдадут и так. Ниже «четверки» я никому не ставлю. Мне все равно – читали они «Свет в августе» или нет. Думаю, что Фолкнеру, в принципе, тоже.
Но этот не уходит, стоит. На лице – пытливое выражение. Видимо, хочет «отлично». Зануда.
Я собрал свои листочки в портфель и пошел к двери. Эти смешливые расступились.
– Святослав Семенович… – у него в голосе недоумение, как будто я ему денег должен.
Не должен. Лекция идет в два приема по сорок минут. Между ними пять минут перерыва. Мои законные триста секунд. Триста секунд на молчание. На смотрение прямо перед собой в попытке увидеть то, чего не существует. Вокруг – хихиканье, бутерброды и толкотня. Пять минут. Не больше. По-новогоднему круглое счастливое лицо Люси Гурченко ни при чем. Не подходит.