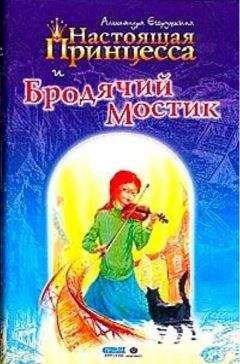Потом уже Венька выяснил, что стукнул на него тот самый знакомый радиолюбитель из Ленинграда, но в этот момент в деканате у нас было такое ощущение, как будто нас предал весь мир.
И в психушке, куда нас привезли через два часа, у меня было точно такое же ощущение. Даже еще хуже.
«…посредством купирующей терапии аминазином и галоперидолом», – сказал Олегу Степановичу главврач, и нас развели по палатам.
Забавно, но Веньке не было плохо даже в дурдоме. Он быстро подружился с главным врачом, договорился, чтобы нам не ставили никаких уколов, и целые дни проводил в палате у одной странной еврейки, которая попала сюда, пытаясь ночью зарезать своего мужа. Прямо в постели, пока тот спал.
Венька сказал нам, что она сделала это из религиозных соображений.
Но меня не очень интересовали его рассказы. На третий день в психушке опять появился Олег Степанович. На этот раз он вызвал для разговора одного меня.
Оказалось, что Колькин отец, Филипп Алексеевич, накануне чистил свой трофейный «Вальтер» и в результате несчастного случая погиб. Василиса Егоровна, у которой было слабое сердце, перенесла обширный инфаркт и скончалась в больнице. И вот теперь Олег Степанович хотел, чтобы я, как друг, рассказал обо всем этом Кольке.
«Ему будет легче услышать это от вас».
А я потом несколько дней ходил по больнице и думал, как же мне это сделать? Я вообще о многом думал тогда – о том, что было бы, если бы Колькины родители не повели себя так гостеприимно и Венька остался бы жить в каморке Петровича; о том, что Филипп Алексеевич не мог позабыть о патроне в стволе, потому что он всегда о нем помнил; о том, что будет теперь со мной, и о том, как странно это все складывается – вот люди любят друг друга, а потом, раз, и умирают в один день.
Но главное – я думал о том, как мне сказать Кольке.
Спустя тридцать лет выяснилось, что доктор Головачев так и не нашел в себе решимости справиться с обаянием короткого звука «ха!» – сигнала к атаке, с которым моя Рахиль призывала на помощь невидимые силы и, склонив голову, бросалась, как Орлеанская девственница, на кого-нибудь в бой. Чаще всего, разумеется, на меня. На мои перетрусившие полки бургундцев и англичан.
Даже спустя тридцать лет Головачев использовал этот сигнал с теми же военными целями. Только теперь он призывал к оружию не против замученного ревностью аспиранта и по совместительству санитара его сумасшедшей больницы, а против стоявшего перед ним мальчика лет десяти, на лице которого была ужасная скука и большой нос самого доктора Головачева. Вернее, теперь уже наверняка профессора.
– Ха! – говорил этот очень состарившийся человек. – Неправильное ударение! Неправильное!
– Почему? – с неприкрытой тоской спрашивал мальчик.
– Не делай вид, что тебе интересно! – кричал старик.
– Мне не интересно.
– Вот так. Всегда говори правду.
Он повернулся ко мне и покачал головой.
– Вечно врут. Это поколение мы потеряем. Вы можете подождать еще минут десять? Нам надо выучить до конца стихотворение.
– Мы его уже выучили, – сказал от стены мальчик.
– Стой там! – прикрикнул на него Головачев. – И не смей больше мне врать.
– Мы выучили его уже два раза! Ты все забыл.
– Я ничего не забываю. Это ты неправильно делаешь ударение.
Он снова повернулся ко мне:
– Как, вы говорите, ваша фамилия?
– Койфман. Мы были знакомы в начале шестидесятых годов. В шестьдесят втором, если точнее.
– В шестьдесят втором? – он поднял брови и кивнул. – У меня тогда родилась последняя дочь. Мать вот этого пройдохи. Стоять!
Я вздрогнул, но тут же понял, что он кричит не на меня. Просто мальчик у стены попытался дотянуться до вазы с печеньем.
– Бездельник! Ничего не получишь, пока не выучишь стих!
– Я уже два раза его рассказал!
– Не ври.
Он снова повернулся ко мне:
– Так, вы говорите, ваша фамилия – Койфман? Отлично вас помню. Вы были тогда очень известный спортсмен. Кажется, ваш брат у меня лечился. Мания преследования и депрессивный психоз. Чем теперь занимаетесь?
Он смотрел мне в лицо и рассеянно улыбался. Не дождавшись ответа, он повернулся к своему внуку.
– Давай с самого начала. Ты видишь – ко мне пришли. Нельзя долго держать человека.
Они снова начали препираться, а я смотрел на мальчика и вспоминал лицо доктора Головачева, когда он показывал мне свою новорожденную дочь. Тридцать лет назад я сидел в этой же комнате, и он вынес ее из спальни, чтобы похвастаться. Впрочем, возможно, у него были другие цели. Я в тот момент еще не знал, что они сделали с Любой в своей больнице. Не только с ее головой, но и с ее телом. Поэтому, быть может, он вынес свою дочь в качестве утешения. В качестве приза за то, чего я так и не получил.
У нее было сморщенное лицо, скрипучий голос и крошечные дрожащие руки, а теперь ее сын стоял у стены и читал наизусть Языкова.
– Неправильное ударение! – останавливал его Головачев. – На второй слог! На второй слог бей – я тебе говорю!
И мальчик уныло принимался декламировать с самого начала:
«Громадные тучи нависли широко
Над морем и скрыли блистательный день».
– Вот видишь, – радовался Головачев. – Второй слог ударный в «широко». Второй, а не последний.
– Дурацкое стихотворение, – отвечал мальчик.
– А я тебе говорю – все дело во втором слоге.
– Я уже читал с таким ударением. Сегодня утром и потом в обед.
– Не ври. Я бы запомнил. Всегда хочешь меня обмануть.
Когда он заставил внука читать стихотворение в пятый раз, я окончательно понял, что мальчик не лжет. Головачев действительно ничего не помнил. Он слушал декламацию внука, добивался правильного ударения, поворачивался ко мне, спрашивал о моих прежних успехах в гребле, а потом снова требовал, чтобы мальчик прочел наконец это несчастное стихотворение так, как надо. К пятому разу мне показалось, что я опять попал в сумасшедший дом. При этом больше всего удивляло поведение мальчика. Он хоть и сопротивлялся, но все же читал каждый раз эту историю про тучи над морем и терпеливо выслушивал потом бесконечно повторяющиеся замечания деда.
– Вот так, – говорил Головачев довольным голосом. – А теперь давай послушаем, как ты выучил стихотворение.
Я собирался уже встать и уйти, но в прихожей в этот момент хлопнула дверь.
– Ну что? – сказала, входя в комнату, раскрасневшаяся от мороза и быстрой ходьбы молодая некрасивая женщина. – Сколько раз он поел?
Судя по всему, это была та самая девочка, которую Головачев вынес мне в эту комнату тридцать лет назад.
– Ни разу, – ответил мальчик. – Я читаю ему стихотворение.
– Молодец. Можешь теперь отдохнуть. Если хочешь, беги во двор. Там Сережка с Наташей катаются на коньках. Спрашивали – выйдешь ли ты.
– Выйду, – мальчик кивнул головой и убежал в другую комнату.
– Простите, – сказала она мне. – Я только пальто сниму.
Когда она исчезла в прихожей, Головачев потянул меня за рукав:
– Подайте мне печенье, пожалуйста. И скажите им, что это вы съели. Вы ведь спортсмен, вам нужны калории. А то они не кормят меня совсем.
Я поднялся со стула и передал ему всю вазу. Пора было уходить.
– Вы извините, что никто вас не предупредил, – сказала мне в прихожей его дочь. – Просто вы позвонили, когда меня не было дома. Знаете, предновогодние хлопоты, и на работе как всегда аврал.
– Ничего, – сказал я. – Все в порядке. В любом случае надо было его навестить.
Она тяжело вздохнула и потерла ладонью свой некрасивый, сильно закругляющийся к корням волос лоб. От этого движения стало заметно, насколько она устала.
– Он ничего не помнит. И главное, он не помнит, что уже поел. Приходится просить Кольку, чтобы отвлекал его. Врачи говорят – надо быть осторожней. Он ест без остановки. От этого можно ведь умереть.
– Да, да, от вас дождешься, – ворчливо сказал Головачев, появляясь у нее за спиной с вазой печенья в руках. – А вы заходите еще. Расскажете мне про греблю. Мне в юности очень нравились такие вещи.
Он стоял за спиной своей дочери, но при этом его как будто не было здесь. Как будто он вышел из своего собственного тела и позабыл закрыть за собой дверь. От этого тело все еще на что-то надеялось и не бросало жить, однако окружающим эта надежда, судя по всему, была уже в тягость.
– А вы зачем приходили? – неожиданно спросил он, когда я уже стоял на пороге.
– Просто так… Хотел повидаться, – сказал я, немного помедлив.
Рассказывать о Дине теперь не имело смысла. К тому же я понял, что она все равно бы не согласилась. Выдавать себя за сумасшедшую было не в ее стиле. Этой девушке хватало своих собственных сдвигов. Впрочем, от судебного разбирательства они, к сожалению, освободить ее не могли. Необходимо было срочно искать другой выход.
* * *
Природа всякого выхода, к сожалению, состоит в том, что его непременно надо искать. Психолог показывает своему пациенту картинку со словом «подарки», и тот с радостью говорит либо «день рождения», либо «Новый год». Таковы его примитивные ассоциации. Но зато у него еще есть выбор. В случае с «выходом» опции исключены. Произнесите это слово, и пациент скажет – «надо искать».