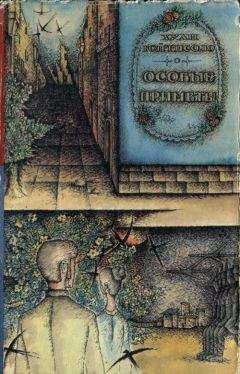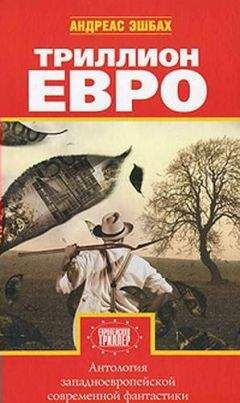Он добился, чего желал. Голова кружилась. Но страх не покидал его. За те два часа что-то случилось.
— Идите, идите со мной.
Ему было страшно остаться одному. Пьяный угар и крики толкали его открыться, постичь, что же произошло в тот вечер.
Урибе знал, что, останься он один, ему не выдержать, он все разболтает: желание было сильнее воли. Он вспомнил Паэса: «Я должен молчать!» Урибе поднес руку ко лбу. Ему не хотелось ни на кого смотреть.
— Братцы...
Вдруг он обратил внимание на невзрачного молоденького блон-динчика, лицо которого, неизвестно почему, показалось ему очень знакомым. И почувствовал, что силы оставляют его. Он был побежден: он хотел исповедаться. «О нет, нет!»
— Юноша! Да ты, ты, который на меня смотришь. Ты, который меня слушаешь...
Урибе скоморошничал. Он подражал своим бывшим учителям.
— Я?
— Да, подойди.
Урибе провел юношу в гардеробную с зеркалом и зажженными канделябрами.
Он судорожно глотнул. В голове снова туман — провал памяти; мягкая волна какой-то странной тошноты захлестнула внутренности. «Итак, начнем».
Урибе достал фиолетовую бутылку и, пока пил, окончательно понял, что это неизбежно. Он исповедуется именно перед этим мальчиком, перед этим и ни перед кем другим.
Блондинчик все еще удивленно рассматривал Урибе.
— Мне кажется, я вас знаю... Ваша маска...
Урибе жестом прервал его.
— Это обман. Все обман. Как мои брюки. Мне дали их только для украшения.
Поминутно хватаясь руками за лицо, Урибе нечаянно стер краску с губ и измазал себе шею.
— Я ненавижу все определенное,—сказал он.—Я питаюсь ложью. Я прикрываю вещи серпантином и мишурой. Я люблю преходящее.
Юноша оторопело смотрел на Урибе.
— Вы? Кто вы такой?
Урибе сурово взглянул на него.
— Ты это сейчас узнаешь, бесстыдник. Но сначала научись подчиняться мне и не трепать язычком! Ну? А теперь за мной. Выйдем незаметно. На этой лестничной площадке есть пустая каморка, где мы можем пооткровенничать.
Он взял один из канделябров и направился к двери.
— Куда вы меня ведете?
Юноша стоял за его спиной не двигаясь. Урибе метнул в его сторону быстрый взгляд.
— Это тебя не касается и не должно интересовать. Если ты снюхался с одной из этих омерзительных резвящихся бабенок, можешь сказать ей, что вернешься через минуту. Не беспокойся: я с тобой ничего не сделаю. Мои запросы отнюдь не физические.
Урибе открыл дверь гардеробной и показал юноше выход. Выражение его лица быстро изменилось. Теперь это снова был паяц.
— Пошли. На улице маленькие пустые архангелы нарушают правила движения, проезжая по левой стороне.
Он обернулся к зеркалу и пробормотал:
— Я сошел с ума.
В маленькой комнате царила тишина, только потрескивали белые фитили, извиваясь в языках пламени высоких шандалов.
* * *
Урибе держал в руках рюмку с фиалковым ликером и, прежде чем начать говорить, поднес ее к губам.
— Он называется «Parfait Amour».
Юноша ерзал на маленьком соломенном стульчике. Урибе с высоты своего кресла мерил его взглядом, властным, испепеляющим.
— Это, кажется, значит: «Совершенная Любовь». -
— Верно,— ответил Урибе.— Чистая, Непорочная Любовь. Ты весьма сообразительный мальчик.
Он отхлебнул из рюмки и протянул ее юноше.
— Возьми, попробуй. Кажется, ты еще и чистоплотный; я не буду брезговать.
Юноша нервно засмеялся. Напиток, который предлагал ему Танжерец, вызывал у него отвращение, но он не посмел отказаться. Он отпил немного и сказал:
— Очень вкусно, спасибо.
Урибе терял свой облик. Грим расползался по лицу, краски смешивались, между черных губ сверкали белые зубы.
Комната была освещена тремя свечами в канделябре. Пламя сильно колебалось. Урибе едва сдержал судорогу, пробежавшую но телу.
— Здесь сквозняк,— сказал он.— Посмотри-ка, хорошо ли закрыто окно.
Блондинчик поспешно вскочил. Войдя в каморку, Урибе запер дверь на ключ и положил его в карман. Теперь юноша не знал, чем все это могло кончиться.
Он плотно прикрыл раму, и пламя свечей сразу перестало плясать. Ровные язычки огня спокойно лизали крученые фитили.
— Как темно,— сказал он.— И как тихо.
Юноша снова уселся на свой соломенный стульчик, продолжая с опаской поглядывать на размалеванное лицо Урибе. Что-то в его движениях и в манере говорить было ему знакомо.
Танжерец не обращал на блондинчика никакого внимания. С задумчивым видом он мочил в скипидаре носовой платок и осторожно стирал им краску с лица.
— Тебе понравился мой грим? — сказал он наконец.
Юноша кивнул.
— Очень здорово получилось,— пробормотал он.— Вы напрасно его стираете.
— Мне всегда нравилось наряжаться,— продолжал Урибе.— В детстве у меня было множество масок и костюмов. Моя мать была импрессарио, и я выступал и в театрах, и в цирках. Иногда я выкидывал непристойные номера. Но обычно я просто плясал. И все время мечтал о карнавале. Мне очень нравится, когда люди надевают яркие костюмы и маски и гуляют по улицам. Ты никогда не пробовал наряжаться женщиной, краснокожим или пиратом?
— Нет.
— Ну так надо попробовать. Когда мы жили в Танжере, я дружил с ватагой маленьких сорванцов. Они-то и научили меня наряжаться. У меня были настоящие бурнусы, накидки из верблюжьей шерсти, собирал я и музыкальные инструменты: бендеры, типле, тебели, гермбрики, деранги и различные виды кастаньет. Ребятишки обычно наряжались в звериные шкуры и прицепляли к щиколоткам коконы бабочек. Как все было тогда прекрасно...
Урибе достал из кармана зеркальце и, смотрясь в него, стал счищать краску с бровей. Присутствие юноши действовало на него успокаивающе. И все же он разрывался между необходимостью молчать и желанием выложить все начистоту.
— Это, должно быть, было очень далеко,— услышал он голос юноши.
— Да, в Африке.
— В Африке? Вы были в Африке?
— Я был во всех пяти частях света, и на полярных шапках,— ответил Урибе.— Но мой родной город Танжер!
Он провел платком по губам и замолчал, переводя дыхание.
— Отец занимал там важный дипломатический пост. Мои родители были приверженцами графа Куденкова-Калерги, и, когда мне было всего семь лет, они заставили меня выучить эсперанто. К этому времени я уже знал французский, английский, немецкий, итальянский языки, греческий и латынь, но они настояли на том, чтобы я выучил еще и этот язык. Хочешь, я что-нибудь скажу на эсперанто?
— Я все равно ничего не пойму,— ответил юноша.
— Ха! Да разве мы понимаем друг друга, даже когда говорим на одном языке? Разве есть настоящее общение между людьми? Ведь мы всего лишь репродукторы, которые одновременно транслируют различные программы.
Его слова растекались по комнате, наталкивались на глухие стены и смешивались с доносившейся из мастерской веселой музыкой.
— Я думаю...— начал блондинчик.
— Кажется, тебя никто ни о чем не спрашивал.
Урибе прекратил вытирать с лица краску и с неудовольствием посмотрелся в зеркало. Он выглядел постаревшим, усталым. Присутствие этого тупицы одновременно и успокаивало и раздражало его. Два часа выпали из памяти. Пустота. Провал. Урибе схватился рукой за лоб. Ему хотелось напиться еще больше. Так и ие удалось убежать от самого себя. Не помог и маскарад.
Он потрогал кончиками пальцев ушибленное место. Вместо только что стертой краски на щеке темнел синяк цвета сырой печенки. «Припомним,— сказал он себе.— Были две маленькие гориллы. Я сидел с ними рядом. Гладил их». Нет, не то. Его избили в туалете. И потом почти волоком вытащили на улицу-
Руки его с жадностью схватили рюмку. Она была пуста. Он тут же нащупал бутылку. Она тоже была пуста. Урибе, задыхаясь, обернулся к юноше.
— Послушай-ка,— сказал он.— Ты ведь умненький мальчик и, надеюсь, поможешь мне выпутаться. Выслушай меня. Будь только очень внимателен и не пропусти ни словечка.
Юноша с ужасом смотрел на него. Стерев густой слой краски, Урибе словно обнажил свое подлинное лицо. Юноша уже где-то слышал этот голос, видел эти жесты. Несколько часов назад в баре на Эчегарай этого типа, совершенно пьяного, вышвырнули на улицу. Он приставал к посетителям с теми же омерзительными намерениями.
Блондинчик почувствовал, как холодный пот выступил у него на лбу. Он вспомнил, что Урибе запер дверь на ключ, который спрятал в кармане. В памяти всплыли страшные рассказы, предупреждения товарищей по колледжу. «Иногда они очень опасньи Нападают первыми». Он попал в ловушку, попал по-глупому, и поэтому злился на себя.
— Сегодня вечером,— продолжал Урибе,— меня зверски избили. Измордовали. Утверждают, будто нам нравится, когда нас бьют, но это ложь. Это ужасно, когда пускают в ход руки. Как-то одна бабенка дала мне пощечину. Это было чудовищно...