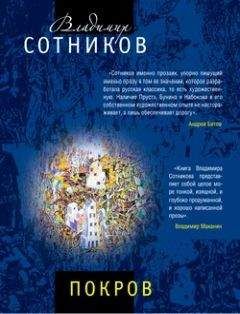Не сиделось на месте. Я опять вышел на улицу.
В темноте воздух превратился только в звуки. Хотелось ясного и понятного, что могло бы соединить и этот близкий плач, и далекий летний день, когда крик ворон над лесом закрыл все небо.
Сегодня в ее очках выпало одно стекло. И длинное морщинистое лицо перекосилось, как сползший с одного гвоздя портрет. Мокрый глаз углубился и еле виднелся из-под века.
Когда я утром умывался возле рукомойника, бабушка медленно вышла из-под нависших на дорожку подсолнухов. Она держала перед собой руку, чтобы подсолнухи не ударяли в лицо, – по этой дорожке она проходила уже тысячи раз, и казалось, не думала, что идет, а просто слушала шорох подсолнухов. Я поспешил прополоскать рот и ожидал, когда она подойдет.
– Доброе утро.
Она остановилась, взялась рукой за очки и посмотрела на меня.
– Доброго здоровья, – подошла ближе. – Холодная вода? Холодно уже тут умываться, надо в хате. – Она никогда не говорила одно только «доброе утро», а всегда вот так добавляла что-нибудь. Она подошла еще ближе и просунула палец в пустое стекло очков, ожидая, чтобы я это увидел. Беззвучно смеясь, покачивала головой, словно приговаривая: «Вот, дожилась до чего…»
– Выпало? – Я сделал озабоченное лицо. – А стекло цело? Может, вставить опять можно? – Я рассматривал полотенце, искал подходящее место, чтобы им утереться. Полотенце было полосатым – полоса темная, полоса светлая, широкие такие полосы, и я подумал, что люди делятся на тех, кто утирается темной полосой и кто утирается светлой. Я всегда успевал так подумать, когда брал в руки это полотенце.
– И что делать – совсем не вижу. Пропало стекло. Искала – и куда оно упало? А тут еще вот эта зараза, – бабушка дотронулась до изоленты, толсто накрученной на ушко очков, – камнем давит, аж голова болит.
Она все так же держала рукой очки, поворачивая голову то в одну сторону, то в другую, словно пробуя: может, прояснится перед глазами. Так в детстве я смотрел через цветные стеклышки. А когда было затмение солнца, мы коптили простые стекла спичками и подолгу так глядели на небо, пока не начинали болеть глаза.
– Я посмотрю – может, из старых очков найду стекло и ушко это, – сказал я, – давайте очки.
Я знал, что бабушка сейчас не снимет их.
– Ну, может, вечером, освободишься от работы, а то мне без очков совсем темно. – Она поправила резинку на затылке; резинка держала очки, чтобы не спадали.
– Ага, вечером возьму. – Я потихоньку пошел, все еще утираясь на ходу, в хату.
Там уже все завтракали. Я сразу не сел за стол, а еще покопался в ящичке шкафа. Отец спросил:
– Что ты?
– Да вот бабушке надо очки поправить – поломались.
– Ага, сынок, сделай, а то ж она совсем ничего не видит. Ходит – шатается.
Я ничего не нашел и сел завтракать. Я ел и думал, как найду маленький винтик, прикреплю отломанное ушко на очках, как вставлю новое стекло, и даже представил, как щелкнет при этом оправа.
После завтрака мы с отцом начали красить ставни. Краска оказалась белой, и мы захотели разбавить ее еще какой-нибудь, чтобы изменить этот больничный цвет.
– Сходи к бабушке – у нее была синяя краска, – сказал отец.
Я почему-то не хотел идти.
– Ты, наверное, знаешь, где она лежит, может, сам сходишь? – посмотрел я на отца. – А я пока эту разболтаю.
Отец принес старую облезлую банку, там была застывшая краска. Я сел на траву под окнами и стал размешивать. И знал, что сейчас придет бабушка – вот она идет, как пьяная, глядит перед собой, оступается при каждом шаге. Пришла к самому окну:
– Что, уже покрасили? А какой это цвет? – и рукой щупает ставни. – Так они ж сухие!
– Ну что ты спрашиваешь – еще не начинали, пока начнешь, так и день кончится! – Отец промывал кисти и резко махал ими сейчас в воздухе.
Бабушка, щупая сзади себя ступеньки крыльца, села. И стала смотреть на меня, тихонько покручивая головой – наверное, стараясь, чтобы стало видно.
– Красиво будет, как покрасите, а? И так ставни красивые, а то картинки станут.
Она всегда, когда мы работали дома, подходила так, садилась и что-нибудь говорила про работу. Посидит-посидит, потом:
– Во страх! – и покачает головой – помолчит.
Отец долго молчит, потом не выдержит и спрашивает раздраженно:
– Что – страх?
– Да жуки! Жуки колорадские всю картошку съели – на каждом каливе десятками. Пропала картошка.
Отец молчит, работает, потом:
– Ну, сейчас я все брошу и побегу жуков собирать! Тоже – ерунду городит, ты же видишь, работы по горло, ничего не успеешь сделать. А она свое…
– Так я и не говорю… Конечно, работа. Я просто…
– А просто – так сиди и молчи.
Я думаю, что бабушка обидится, смотрю на нее. Она кивает головой и покорно усмехается:
– Вот, детка, как старый, так никуда не гожий – и надо ж мне говорить?..
Я обычно в таких случаях улыбаюсь – работа продолжается. Вот и сейчас бабушка сидит, собирается что-то сказать.
– И куда Зинка рецепт отнесла – может, не в ту больницу? – и молчит. Долгое молчание, мы уже мажем кистями по ставням; отец спрашивает:
– Какой рецепт?
– Да на очки – сказала, что отнесла уже месяц как, а очков все не сделают. Неужели всем так долго? Как же люди ходют?
– Наверное, она и не относила – жди теперь. Надо посмотреть: может, где у нас какие старые очки валяются, все что-нибудь бы видела. А так будешь ходить – совсем окосеешь.
Отец отошел на несколько метров, посмотрел на покрашенное.
Бабушка подняла на него лицо:
– Ну как, красиво? – повернулась к окну, долго щурилась.
Я увидел, как от напряжения у нее поползла по щеке слеза. Она вытерла ее рукой, растерла ладонями, вздохнула и начала подниматься. Поднявшись, пошла, опираясь рукой о стену.
Я хотел сказать ей, чтобы она остановилась, и – не знаю, что я еще хотел; посмотрел ей вслед и ничего не сказал. Я хотел подвести ее к окну и объяснить, какой там цвет – как небо, как это просто, как это ничего не стоит – видеть. Я об этом думал и понимал, что мне этого только хочется – и все, не больше. Потому что минуту назад я видел здесь бабушку, она что-то говорила, и это было естественным и ясным мне все время. Я этого даже не замечал. А когда начал думать, как ей сказать, объяснить, – все изменилось, точно прошло через стекло. Конечно, я мог бы сделать все так, как думал – и произнести какие-то слова, и подводить ее к ярко-синему окну, удивляясь, что этого можно не видеть; и я даже хорошо представляю – но это было бы совсем не настоящим. И я понял, что этого можно только хотеть. То, что я показываю бабушке цвет окон, может быть настоящим только вот в таком виде – я могу этого только хотеть, не больше.
Я красил дальше. И не хотелось больше красить. Я ждал, что придет бабушка и будет сидеть со мной рядом. Я даже представил, как она сидела бы, а потом спросила:
– А другой краски не было? Кабы зеленой, а?
Я пожал бы плечами и, наверное, ничего бы не сказал.
К обеду мы закончили. Светило солнце, и все сверкало. Я был весь перемазан краской и пошел отмываться керосином. После керосина мыло не мылилось, и в рукомойнике кончилась вода. Я схватил одно ведро – другого не было под рукой – и пошел по дорожке возле подсолнухов. Чтобы не ходить с одним ведром, я решил зайти к бабушке, принести воды и ей.
Бабушка возилась с керогазом. Может быть, руки ее работали по привычке, но все получалось у нее очень ловко. Когда я смотрел, как бабушка работает, то начинал подозревать, что она все видит и только притворяется. Бабушка приподняла голову, поддерживая очки.
– Давайте я вам воды принесу. – Я взял ведро и стоял, не отходил. Надо было еще что-то сказать, и я знал что – про ее очки, как я их отремонтирую; но я молчал. Постоял и пошел медленно – хотелось оглянуться, и от этого я все так же медленно шел.
Когда вернулся назад, поставил ведро и сказал:
– Ба, давайте я сейчас поправлю очки.
Она сняла их, сложила, распрямила дужки.
– А, не надо – у тебя, наверное, работы много. Может, Зинка привезет. – Она помолчала, махнула рукой. – Может, они и ненужные мне. Все равно темно.
Я промолчал и пошел тихонько.
Странно, но было такое чувство, словно меня освободили от работы. Я думал, что возьму очки вечером, и даже незаметно для бабушки, чтобы ей завтра был сюрприз, но знал уже, что не буду этого делать.
Конечно, надо было бы сделать ей очки, хотя бы дужку прикрепить. Я шел и думал, что надо, и даже представлял, где бы дома можно найти старые очки, чтобы снять с них эту дужку. Но я знал, что все останется так, как есть.
И мне показалось, что сейчас нечего делать, хотя работы было еще много. Просто стало безразлично. Словно я остановился, а можно бежать вперед или оглянуться и назад пойти – куда же я хочу пойти? Я стою и знаю, что так мне и хочется, так и надо мне стоять – и только хотеть: или вперед, или назад.
– Ваня! – отец позвал меня. Надо было еще что-то красить.