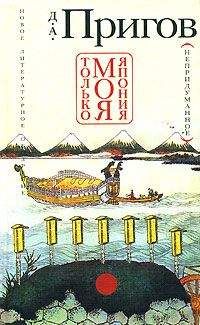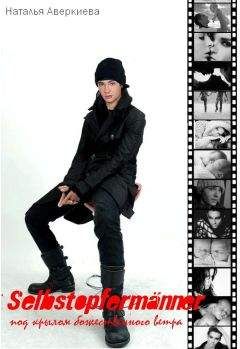Но он же не любит музыку Монтеверди? —
Нет, не любит, — подтвердил я.
Ну, что с тобою, девочка? — ласково обратилась к бабочке наша спутница.
Бабочка ничего не отвечала, только взглядывала неимоверно, неизбывно печальным выражением спокойных и удивительно старческих глаз. Я моментально стал сдержаннее в движениях, вспомнив известного древнего китайца с его странным и поучительным сном про него самого и бабочку, запутавшихся во взаимном переселении друг в друга.
Перед моими глазами всплыла неверная картинка далекого-далекого незапоминающегося детства — а вот кое-что все-таки запомнилось! Мне привиделось, как среди бледных летних подмосковных дневных лугов я гоняюсь за бледными же, сливающимися с полусумеречным окружающим бесплотным воздухом, слабыми российскими родственницами этой безумной и просто неземной красавицы. Среди серо-зеленых подвядших полян я как бы парю наравне с ними в развевающихся сатиновых бывших черных, но повыстиранных до серебряного блеска трусах и истертых спадающих сандаликах. Я все время чуть-чуть промахиваюсь и медленно, как во сне, делая разворот на бреющем полете и постепенно набирая скорость, опять устремляюсь вослед нежным и завлекающим обманщицам, ускользающим от меня с легким, чуть слышимым хохотом, слетающим с их тонких белесых губ. В руках у меня нелепое сооружение из марлевого лиловатого мешочка, прикрепленного к длинному и прогибающемуся пруту, называемое сачком и смастеренное отцом, в редкий воскресный день выбравшимся из душной Москвы к семье на звенигородскую немудреную дачу. Я гоняюсь за бесплотными порхающими видениями, исчезающими прямо перед моими глазами, как блуждающие болотные огни, оставляющими легкий след пыльцы на моем орудии неумелой ловли, словно некое неведомое и тайное делало ни к чему не обязывающие необременительные отметки ногтем на шершавых страницах обыденности. Так мы летали над лугами и полянами, пока наплывшие сумерки не объединили нас всех в одно неразличаемое смутное вечернее шевеление и вздыхание. Такое было мое далекое и плохо запомнившееся детство.
Смотрите, — воскликнула спутница, — у нее на крыльях что-то написано!
Что это? —
Мы были несильны в расшифровке китайских многозначных иероглифов, но муж женщины знал некоторые. Подождите, они все время меняются. —
Да? А я и не заметила. —
Вот, вот, кажется, остановилось. —
И что же там? —
Что-то вроде «опасность»! —
Какая опасность? —
Не знаю, просто иероглиф — опасность! — У меня в голове сразу промелькнули зловеще шипящие кадры из кубриковского Shining.
Кому опасность? —
Не знаю. Вот, уже другое. —
Что другое? —
Этого я уже не могу разобрать. Давайте-ка лучше уберем ее с дороги, а то раздавит кто-нибудь по невнимательности. —
Только не трогайте за крылья! Только не трогайте за крылья! Вы повредите пыльцу! — вскрикивала женщина.
Я сейчас принесу какой-нибудь листок, — быстро проговорил ее муж, отбежал и вернулся с обещанным листком. И в тот самый момент, когда он сердобольно пытался подсунуть листок под, казалось, совсем уже полуживое существо, бабочка, собрав остаток дремавших в ней сил, внезапно взлетела и на низком бреющем полете поплыла над посверкивающей водяной поверхностью пруда. Она с трудом выдерживала траекторию и минимальную высоту полета, то чуть-чуть взмывая на небольшую высоту, то в следующий момент почти касаясь крыльями воды. И в одной из таких самых низких точек ее траектории сквозь почти металлическую поверхность пруда просунулись полусонные бледные костяные растворенные рыбьи губы и поглотили неведомую красавицу.
Охххх! — вырвалось из всеобщих уст, быстро и легко прокатилось над блестящей гладью пруда и замерло у подножия недалеких холмов. Мы словно застыли похолодев и долго стояли в безмолвии и прострации.
Даааааа.
При встречи с подобным ничего не остается, как попытаться постигнуть возможный внутренний смысл сего как метафору нашего бренного существования, явленную воочию или же, более того, — как предзнаменование. Немногие, продвинутые и осмысленные, могут попытаться и приоткрыть тайное истинное имя данного явления, события либо данного конкретного существа, чтобы оно само застыло застигнутое, пало бы на колени и низким глухим голосом, словно доносящимся из-за твоей собственной спины, объяснило себя или произнесло:
Чего тебе надобно, старче! —
Служи мне! —
А что же конкретно тебе потребно от меня? —
А я и сам не знаю! —
Ну, думай, думай! —
Я думаю, думаю! Ты пока отдохни, а я о другом подобном же подумаю! —
О чем же это? —
О другом, но схожем. Придумал. Вот оно:
Я придумал для японцев два слова:
Васл Ова
Я придумал про Японию еще два:
Юещед Ва
Я придумал название японской рыбы:
Скойр Ыбы
Я придумал нечто японское простое:
Коепрост Ое
Я придумал имя японского бога:
Скогоб Ога
Я придумал что-то японское, но не очень:
Онеоч Ень
Я придумал японское и китайское сразу:
Коеик Ит и Коеср Азу
А вот название японского чуда:
Онскогоч Уда
Иногда я по-японски даже думал:
Ажедум Ал! — думал я по-японски
И было написано, когда я подплывал к Японии:
Ывалкяп Онии
И было написано на японских небесах:
Ихнеб Есах
И было написано в японских душах:
Скихдуш Ах
И было написано на японских камнях:
Скихкам Нях
И было написано на японской темноте:
Ойтемн Оте
И было написано на японской тайне:
Онскойт Айне
И было написано на японском всем:
Онскомвс Ем
И было написано на японском ничто:
Онскомн Ичто
И было написано японское во мне:
Онскоев Омне
И было написано японское японское:
Онскоеяп онское
Необыкновенный объект дизайнерской мысли, описанный в предыдущей главе, — все-таки редкое исключение. Улицы и площади же крупных городов в качестве культурной и монументальной пропаганды и просто украшения заставлены в основном голыми бронзовыми девками небольшого размера, чудовищной скульптурной модернюгой либо уж и вовсе чем-то трех-мерно-невнятным. Изредка вдалеке виднеется или по ходу движения попадается что-то необыкновенное, современное и исполинское. Но редко. Очень уж редко для такой наисовременнейшей, по нашим представлениям, страны. Не знаю, может, все крутые японцы, как и такие же наши, едва обнаружившись в своих пределах в качестве современных и конвертируемых на интернациональной культурной сцене, сразу сматываются на Запад. Не знаю. При удивительной деликатности, неповторимом такте и изяществе, с которым спланированы, оформлены и сооружены все небольшие участки всяческих природных уголков и парков с их легкими постройками, навесами, мостиками, скамейками, камнями и цветами, непонятны безразличие и нудность большой городской застройки. Бесчисленные чудеса природы и просто экзотические местечки, водопады, ключи, чудесные неожиданные скалы и деревья окружены изящными и прекрасно выполненными охранительными надписями и ограждениями. Это, конечно, вызывает некоторую грусть, особенно когда представишь, что молодые и стремительные первооткрыватели подобных мест спокойно подставляли свои бронзовые тела под падающую с гигантской высоты обнаженных скал ледяную прозрачную воду, пили ее из ключей и взбирались на высоченные горы. Но так уж везде, по всему миру. Скоро простейшие ручеечки, в которых нам еще доводится остужать перегревшиеся от долгой пока еще возможной пешей ходьбы искореженные новомодной обувью и старомодной подагрой ноги, будут тоже ограждены от простого и прямого общения с ними ради спасения для будущих поколений. Что же, смиримся. Смиримся ради этих будущих поколений, которым, может быть, все это будет просто в мимолетное досадливое удивление, насмешку и пренебрежение. Но, как уже сказано, смиримся. Смиримся.