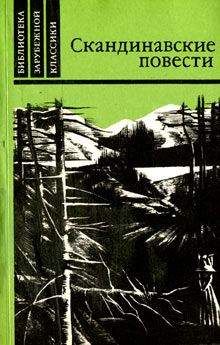Такие мысли теснятся в голове Мэрит этим ясным летним днем. Она думает и о том, какие сны ей приснятся на подушке, набитой пухом, который она держит в переднике. Много ночей будет ее голова покоиться на пуховой подушке, много часов будет Мэрит спать на ней, словно отделившись от себя самой. А вдруг ей придется проводить на этой подушке бессонные ночи, поворачиваться с боку на бок в горе и тревоге, как в последнее время? Может, ей суждено ночами ронять слезы на цветы пушицы? Нет, она не хочет спрашивать себя об этом, особенно сейчас, когда исполнились все ее желания! Ей хочется лишь знать, выпадут ли на ее долю такие ночки, когда он будет лежать рядом с нею, положив голову на подушку из этого пуха? Сольются ли их губы в поцелуе рядом с этими белыми цветами? И Мэрит мнет цветы в руках, словно хочет выжать из них эту тайну.
Вокруг нее ходят по топкому болоту другие крестьянки — хозяйки, их дочери, работницы. И среди тех, кто собирает цветы пушицы, есть одна — темноволосая, кареглазая. Она то и дело распрямляет спину и поглядывает на Мэрит. Смуглянка все что-то шепчет про себя, она знает, что за птица эта молодая жена.
— Шлюха поганая! — шепчет чернявая, и губы ее пересыхают от ненависти.
Завелась в деревне Хэгербек поганая шлюха.
Двенадцать несут тринадцатого
Гостю охота, чтобы хозяева встречали его радостно и провожали, огорченные. Для мирского захребетника, что ходит по дворам, все как раз наоборот. Коли старик Герман хочет обрадовать хозяина, ему надобно сказать, что он переселяется к соседу.
Он уже приметил, что Франс Готфрид хочет сжить его со двора! У него, мол, хозяйство невелико, земли всего одна осьмица; по справедливости надо бы Герману поселиться рядом, у старосты. У того как-никак целая седьмица.
Однако Герман еще пожил у Франса Готфрида, и ему довелось этим летом увидеть в его доме диво дивное. Почитай, все случилось у него на глазах. Правда, той ночью он спал, но ему нетрудно догадаться, как все было; к тому же он спал в той же горнице. И пришлось ему повторять людям свой рассказ сотни раз.
Франс Готфрид высиживает свой страх, как дракон золотое яйцо. И суждено ему было встретить свой смертный час, когда мирской захребетник сидел у него на хлебах. Он спрашивал всякого прохожего и проезжего про однорукого человека, боялся, кабы вор не застал его врасплох. Он уже точно знал, как сей страшный человек поведет себя: так, мол, и так. Однако всего угадать никак нельзя. Того, что случилось, он никак не ждал.
Однажды вечером воротился Франс Готфрид домой со своей пожоги. Входит в кухню и видит — там сидит чужой человек. Жена говорит, мол, пришел прохожий, попросился переночевать за плату. Ходит он по деревням по торговому Делу.
Хозяин не разглядел пришельца, покуда тот не встал со стула, чтобы вместе с другими подойти к столу. И тут он видит, что у незнакомца один рукав висит пустой. Однорукий!
Лицо у Франса Готфрида задергалось, а в груди гулко застучало. Вор! Нет правой руки. Он самый.
Такое ему никогда не приходило на ум. Чтобы вор пришел, как любой мирный прохожий, попросил накормить его и дать кров, сел бы с ним за один стол! До чего дерзок! Неужто не понимает, что его сразу узнают и тот, кого он ищет, будет настороже?
Хозяин глядит на человека, столько лет причинявшего ему страх и беспокойство. Он вряд ли узнал бы своего недруга, кабы не пустой рукав. Вор согнулся, состарился, вовсе переменился. Глаза потухли, белки пожелтели, не светятся больше. Когда открывает рот, начинает говорить, голос звучит слабый и усталый. В тот раз он не был ни слабым, ни усталым, когда вор сказал: «Я еще ворочусь. Я знаю, где твой дом". Тогда он был чисто выбрит, а теперь отрастил длинную рыжую бороду. Верно думает: я, мол, сильно переменился, Франсу Готфриду не узнать меня. Да не тут-то было. Пустой рукав не дает ошибиться. В последний раз он видел этот рукав возле стола судьи. Рукав мотался и тянулся к Франсу Готфриду, а кабы в нем была рука, она вонзила бы нож ему в грудь.
Теперь остается ждать, что этот человек станет делать. Когда же они сели за стол, он вовсе ошеломил хозяина.
Старый вор взял левой рукой край правого рукава, словно сложил руки, как умел, ведь рука-то у него одна. Потом он опустил голову на грудь и стал читать молитву, громко и отчетливо. Молится перед трапезой!
Странник и хозяева едят молча. Но Франсу Готфриду жевать тяжело, и еда не лезет в глотку. Он сильно растерян, мысли путаются. Неужто арестант столь переменился, что стал набожным? Стало быть, он пришел сюда без злого умысла? Отчего тогда он не поминает про их прежнюю распрю? Отчего не говорит ни слова про то, как попал к ним в прошлый раз, да только не через дверь, а через окно? А может, он не знает, к кому пришел в дом? Может, он вовсе и не мстить пришел?
У Франса Готфрида вопросов полон рот, но он потерпит, покуда не останется с этим человеком один на один.
Однорукий читает молитву и после трапезы громко и отчетливо, как пастор, а после идет и садится в угол — ждет, когда постелят постель. Сейчас никто их не слышит, и Франс Готфрид усаживается перед ним. Сейчас он все разузнает.
— И как же это вам случилось потерять руку? — спрашивает он напрямик.
По лицу однорукого пробегает темное облако. Он мрачнеет от огорчения или досады. И, словно нехотя, отвечает:
— Беда со мною приключилась. Давно это было.
Но тут же объясняет:
— В ту пору был я другим человеком. Жалким созданием.
Тут он развязывает мешок и достает из него книги. Это священное писание, он ходит по деревням и продает книги. Однорукий рассказывает, и голос его дрожит: когда-то он жил во грехе, кощунствовал, не питал сострадания ни к одной живой душе. Но потом спасся, как головешка из огня. Стал добрым христианином. Вот и бродит по деревням, торгует святыми книгами, чтобы и других сделать праведными христианами.
Страх и сомнения Франса Готфрида начинают рассеиваться. Видно, бывший вор в самом деле одумался и стал человеком богобоязненным. Когда говорил про господа бога, не похоже было, чтоб фальшивил. Стало быть, и бояться его нечего.
Отчего же, однако, он не поминает про то, что случилось здесь на поле тридцать лет тому назад? Разве он не знает, в какую деревню пришел? А может, не хочет вспоминать про то время, когда был злодеем?
Нет, Франс Готфрид еще не совсем уверился в нем. Надобно разузнать побольше, прежде чем укладывать его спать в своем доме. И он спрашивает еще раз:
— Может, вы из-за кого другого потеряли руку?
Незнакомец пристально глядит на крестьянина, потом опускает голову, смотрит в пол. С трудом отвечает:
— Правильно вы угадали, другой отнял у меня руку.
— Где же это было? Как звать того человека?
Франс Готфрид затаил дыхание, а в груди у него что-то так и свистит, так и стучит.
— Как звать-то его?
— Имя его превыше всех имен, — с благоговением отвечает странник и еще ниже склоняет голову.
Франс Готфрид сидит, разинув рот. Что бы это значило?
— Так кто же он?
А однорукий отвечает:
— Живет он на небесах. Господь бог отнял у меня руку много лет назад, я был в ту пору еще молод. Бог взял у меня руку, чтобы спасти душу. Ибо именно это испытание открыло мне глаза. Увидел я грех, прилипший ко мне, постиг, сколь глубоко погряз в мерзости греховной. Богу пришлось сильно наказать меня, отнять правую руку. Рука пострадала, а душа была спасена. Вот так-то. Но что значит рука, орудие земное, которое бог отнял, чтобы исполнить свою волю? Потерять руку — дело пустячное, когда нужно спасать душу.
С сердца старого крестьянина, охваченного страхом, спадает огромная тяжесть. Однорукий дал ему понять, что Франс Готфрид был лишь орудием в руках господа, когда стрелял в него во ржи. Стало быть, и винить его не в чем. Мол, Франс Готфрид виноват не более, чем его ружье. Хватит спрашивать. Теперь чужой во всем ему открылся. Однорукий знает, в чей дом пришел, и они поняли друг друга. Теперь он служит богу, и нет ни единого божьего творения, к которому он мог бы питать ненависть. Он пришел в Хэгербек не для того, чтобы мстить.
И вот Франс Готфрид оставляет пришельца на ночь у себя в доме. Вместе с хозяевами и домочадцами идет гость в спальню, все кровати заняты, и старика укладывают в углу на полу, постелив полснопа соломы. Исходив за день долгие пути по рытвинам и ухабам, вытягивается он, усталый, на своем ложе. На кровати возле двери спит Франс Готфрид со своей женой. Путник же лежит ближе к окну — он привык вставать спозаранку.
Время отходить ко сну, а светец не надо запаливать — от огня в печи светло, как днем. Когда же начало смеркаться, все уже заснули. Старик Герман храпит у печи. После он станет каяться, что продрыхал всю ночь. Да ведь он думал, что хозяин и однорукий, человек набожный и степенный, толковали по-доброму.
В горнице Франса Готфрида стало тихо. Но сам хозяин еще не заснул. Он лежит, прислушиваясь, и ворочается с боку на бок Ну, что там? Заснул чужой или нет? Слышно, что дышит он тяжело, а спит или нет — точно не понять.