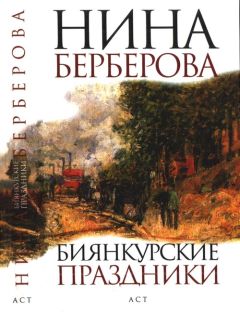А впрочем… Тем, которые аккуратно улеглись на скамейках площади и которым в этом мире не выпало ни гостиной, ни столовой, тем, вероятно, частенько снится именно весна, когда можно меньше есть и больше пить (воды, вслед за соленым), кого-то этот способ жизни устраивает. Сейчас они лежат весь день, обглоданные холодом, а ночью куда-то уходят: в недостроенный дом, в пустую трамвайную будку, за чужой забор, и таким, конечно, необходима курортная температура. Так и быть! Пускай наползает весна! А мы, у которых дома кое-что топится и душа готова еще бог весть к чему, мы постараемся не размякнуть, не раскиснуть, не разнежиться от овощей, сирени и соловьев.
А Весловскому? Чего хочется ему? Неужели так-таки ни на что не откликнется этот человек? Печка у него есть, и печку эту он топит, по крайней мере, через день. Кровать у него хоть и узкая, но в порядке, и он спит на ней — это тоже известно, потому что ночью слышен скрип и сухой, долгий кашель, говорят — не страшный, потому что Весловский не молод. Он стар: ему пятьдесят три года.
Надо сейчас же сказать: это личность необыкновенная. В прошлом, такие слухи ходят, это был негодяй. Была у него история с двумя девочками на Минеральных Водах, в последнюю минуту в Батуме застрелил он какого-то чиновника; в Константинополе его поймали по делу купеческих бриллиантов, но бриллиантов и след простыл. Много позже, в Париже, году в двадцать восьмом, один камушек как-то блеснул в узле его галстука, но вскорости пропал. Он служил в одном франко-русском учреждении, где его держали за манеры, за французский выговор, за ловкость, с которой он выпирал из этого учреждения всех прежних русских служащих, пока его самого не выперли тоже. Он надоел всем до крайности. Машинистка подала на него в суд за какие-то шалости, в счетной книге что-то было подчищено. И тогда он сошел с лестницы, как в театре, вдруг осев, причем пальто его сразу стало истертым и рыжим, хлопнув дверью, как в романе, так что кусок штукатурки рассыпался у него на плече.
И вдруг выяснилось — на улице, дома, в каких-то конторах, куда он забегал, — что он старик, совсем старик, что в помине нет манер, ловкости, один французский выговор остался, который даже смешон в обтрепанном, давно не брившемся человеке. А главное, затылок его напоминал затылок облысевшей мартышки: кое-где волосы падают космами на воротник, пыля перхотью, кое-где виднеется лысина, или даже несколько мелких лысин сразу, роющих в разных направлениях эту когда-то могучую шевелюру. Он всегда был строен, он, говорят, даже был красив, носил монокль, таскал с собой огромные, как столовые салфетки, тонкие и душистые платки. Когда-то.
Что же тут необыкновенного? Действительно, пока все как будто вполне обычно: бывший наглец, полубарин, благородной крови и хамского поведения, опустился и растерялся в жизни — вот невидаль! Но дело в том, что у Весловского было в его теперешней жизни что-то, о чем стоит рассказать.
Начать с того, что по воскресеньям к нему приходили в гости девочка и мальчик, и не только эти дети приходили к нему всегда одни, но что самое важное, ни девочка, ни мальчик не подозревали о существовании один другого. Девочка приходила утром, часов в одиннадцать, оставалась не больше часу и уходила к завтраку домой. Мальчик приходил после двух и уходил часов в пять. Оба звали Весловского папой или даже папочкой, так что действительно выходит, что это были его дети от разных матерей.
Девочке было лет пятнадцать, но в шубке зимой, в снежный день, когда след снега еще белел на крышах и люди шли в церковь, она казалась совсем барышней. Она звонила, он бежал к дверям по пустой квартире, хозяева уже были у обедни, впускал ее и осторожно целовал в щеку.
— Здравствуй, Люсенька.
И каждый раз у него было такое чувство, что она осчастливила его навеки своим приходом, а все-таки пришла напрасно.
Она была девочкой богатой, и он стеснялся перед ней своего нищенского состояния. Она носила веселые, светлые платья, была острижена в кружок. Она садилась к нему на постель и развертывала покупки, и всегда это было что-то неожиданное, купленное в хорошем гастрономическом магазине, где-то далеко-далеко, в ином мире, куда никто из нас не забредывал. Мы, может быть, только витрины такие видели проездом, где колбасы висят, колбасные витрины, от которых билось наше сердце. У других оно бьется от витрины цветочной или обувной, должно быть, есть чудаки, у которых трепет в душе при виде книжного магазина. Но в глубокой сырой улице в столичный вечер, когда все на месте: и сиреневые тени, и оранжевые огни, когда для кого-то наступает радостный час, мы смотрим на окорока, на миски паштетов, на разодетую рыбу и не можем отойти.
Потом она вынимает двадцать пять франков и дает их Весловскому. Он знает, что это ее деньги, собственные, и с заминкой берет и прячет бумажки. На спиртовку он ставит кофейник и моет две кружки и курит. Она рассказывает ему все, что ему можно знать, тщательно отбирая из прошедшей недели самое неинтересное, самое общее, другого ему знать не надо. Мать и отчима только слегка задевает рассказом, нечаянно. Они едут на снег, отдыхать, она остается с фоксом и англичанкой (которая, между прочим, сейчас сидит в кафе и ждет ее).
— А поклонники у тебя уже есть? — спрашивает он с ужимкой, и она отвечает:
— Целый хвост.
Очень скоро ей делается скучно, и она, не зная, о чем бы еще рассказать, и все время помня, что есть очень много вещей, о которых раз и навсегда условлено не говорить, начинает наперекор всему рассказывать про мать, про дом, про отчима, про школу. Про мать! Он внушает себе, что это она говорит о Лиде, о Лиде, той самой, ради которой он двадцать лет тому назад пытался покончить с собой и которая ушла от него, и получила развод, и исчезла из его жизни.
— Ну, папа, я пойду, — говорит она, взглянув на часики на узком запястье. — Ты бы, папа…
Но она умолкает.
— Спасибо, Люсенька, — говорит он, — спроси там как-нибудь, если будет удобно, нет ли костюма старенького у Всеволода Петровича. Ты спроси, не забудь, а я зайду, пусть оставят у швейцара.
Это был ее отец, тот, что возил ее кататься в карете, в Петербурге, в карете, куда однажды не вошла мамина шляпа с перьями, дверца оказалась узка. И сколько потом об этом было разговоров! Она знает, что приходит она сюда не так себе, а по уговору, по решению суда, так объяснила ей когда-то мать. Это так надо. Он держал ее перчатки, пока она затягивала узкий ремешок пояса. И вот она уходит, высокая не по летам, напоминая всем своим видом необычной формы амфору, или, может быть, какое-то комнатное растение, или еще что-нибудь.
Он завтракал и убирал посуду, наскоро проглядывал газету. За стеной завтракали хозяева, или обедали, может быть. Они всегда ели долго и молча; хотя по воскресеньям собиралось все семейство, человек восемь, не меньше, голосов слышно не было, все были заняты едой, и по крайней мере продолжалось это занятие два часа, только посуда гремела на кухне.
Весловский проснулся от звонка, хозяева открыли; Колька шел по темному коридору к его двери, царапался некоторое время, не сразу во тьме найдя ручку, входил без стука и кидался отцу на шею, громоздился к нему на колени, держался за его бледные плоские уши, и все это с таким смехом, с таким лучом в глазах, что Весловский тоже начинал неловко посмеиваться, тискал сына, от которого пахло улицей и мылом для стирки белья.
Одна из Люсенькиных десяток сейчас же переходила в Колькин кулак, потом он с удовольствием съедал остатки курицы и кусок полендвицы.
— Да ты, наверное, миллионер, — кричал он, — я им дома сказал, что ты миллионер, вкусные вещи ешь, а они говорят, что ты скоро будешь просить на паперти. Что такое «паперти»? Французского слова такого нет. Это по-русски? Папироску дашь? Не надо, я только так, чтобы тебя испугать. Я вчера в магазине Козлобабина яблоко спер.
Он валился с хохотом поперек кровати, задирал ноги в башмаках на деревянной подошве, и Весловский почти успевал сосчитать на них блестящие гвозди.
— Красть грешно, — говорил он, — за это в тюрьму сажают.
— Дядя говорит, что ты всю жизнь крал, а в тюрьме не сидел.
— А ты и не заступишься за меня, Коленька?
— А может, это правда? Черт тебя знает!
Он сполз с кровати, сел к Весловскому на колени и положил ему ладонь на лысину.
— От тебя духами пахнет, — сказал он подозрительно, — миллионер духами моется.
Этот приходил не по суду, этот приходил сам собой. Не было ни брака, ни развода. Все было коротко, как-то наспех. А все-таки это был его сын, это он знал.
Одной рукой он сжимал подаренную десятку, другой трогал решительно все: засаленную бархатную думку, бритвенную кисточку, старый путеводитель, главное, что его поражало, был простор этой комнаты, сам он жил неподалеку, в одной-единственной комнате, отделенной от кухни занавеской, и в ней помещались: мать, человек, которого он называл дядей, он сам и две его сводные сестренки трех и двух лет.