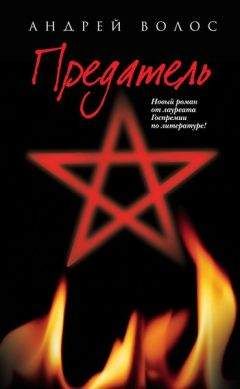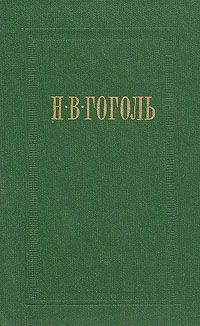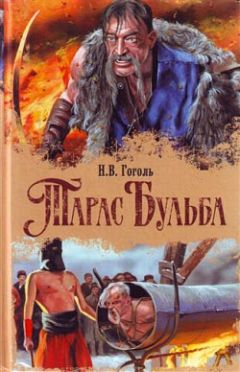На другом берегу три диковинные избы — школа, Дом культуры и Дом Союзов — с портиками из неструганых досок и бревенчатых колонн: с тоски, что ли, потянуло на античность архитектора Левитана, что сам тянул здесь срок за контрреволюционную деятельность?..
Но главное — жизнь за последний год как-то устроилась, вышла на ровное. Наконец-то спокойная работа — не случайная (скажем, валить деревья или бить шурфы), на какую могут бросить любого, чем бы он прежде ни занимался, а по тому делу, в котором ты дока, профессионал, которое знаешь и любишь. Тесный круг сотрудников, тоже людей не случайных, ставших товарищами. Быт нормальный, устоявшийся — свое место, где вечером ложишься, а утром просыпаешься, своя собственная миска, своя кружка… мелочевка разная, какую в зоне не заимеешь, — жестянка с заваркой, нож…
Даже в камере человек обзаводится пожитками, будь они неладны. Чем больше их, тем хлопотнее, всякий шмон вгоняет в пот: трудись, собирая в спешке, под окрики, всякий раз тащи все с собой, как улитка, и выкладывай на проверку. Ведь без имущества, без простыни, без миски-кружки, без какой-никакой подушки и прочего мелкого, затертого в камере, засаленного до неузнаваемости скарба человек не проживет. А чем больше шмоток, тем дольше шмон — легко ли прощупать все швы, во все дырки сунуть палец! Чем дольше шмон, тем больше недовольство контролеров, в любую секунду готовых в отместку, проверяя ботинок, сломать подошву или объявить черенок зубной щетки слишком острым, а потому способным явиться оружием, а потому и запретным. И тут же — шварк в дальний угол!..
Что уж говорить, коли человек получает относительную свободу? Тут же вокруг него заводится масса необязательных вещей: носовой платок, вилка, вторая вилка, вторая, а то и третья кружка… а то, глядишь, и полушубок, откуда ни возьмись, повис на крюке.
И настолько все это хорошо, удобно и приятно, что даже иллюзии какие-то возникают, мечты — дескать, что за славная основательность! что мешает быть ей всегда?..
И вот тут-то бац! — распоряжение по селектору: все бросить и выехать в сельхоз «Песчанка» для производства геодезических работ.
Сельхоз! Сельхоз — предприятие сельскохозяйственное, а что за сельское хозяйство может быть в дикой тайге, в болотах?..
Впрочем, он давно знал, что лагеря выступают подчас под самыми диковинными наименованиями. Привозят на завод — а это зона. Перемещают в леспромхоз — а это тоже зона. Ну, стало быть, может зона и сельхозом называться…
Один как перст, бог весть куда — на север, к Печоре!
Неуют, тоска!.. Что за народ встретит, что за люди?
Не открывая глаз, полез во внутренний карман ватника, нащупал, отломил примерно четверть, сунул в рот, стал медленно посасывать, жевать. Хлебный сок мало-помалу стекал в жадное горло.
Ему вдруг стало обидно, что теперь вспоминаются все больше тюрьма да лагерь. Воспоминания о свободной жизни отставали, их срывало временем, как ветром срывает листву с деревьев… Впрочем, когда память о воле была еще свежей и яркой, она не приносила утешения, а напротив, причиняла острую боль. Ее приходилось подавлять, вытеснять из сознания, а она, улучив момент, возникала внезапно, как будто вырываясь из клетки. Чаще всего именно во время еды: поднесешь ложку тюремной похлебки к губам — и в этот момент мозг раскалывает живая, яркая картина прошлого. Сердце замирает, спазм сжимает горло, комок еды останавливается, схваченный судорогой…
Вагон тряхнуло, паровоз загудел. Поезд тормозил рывками.
Он поднялся, разминая застывшие кости, откатил дверь, высунулся в темноту.
— Песчанка! — крикнул машинист. — Давай слазь, кому надо!
И еще что-то добавил, но уже невнятно.
Шегаев спешно похватал пожитки, спрыгнул сам, снял вещи. Последними осторожно опустил на утоптанный снег штатив, коробку с гониометром и чертежными принадлежностями.
— Давай!
Паровоз окутался паром, снова гуднул, дернулся, пошел, медленно набирая ход…
Он стоял в темноте, озираясь.
Невдалеке засветилось в тумане что-то зыбкое, шаткое… ни дать ни взять — призрак.
Приблизившись, человек поднял фонарь. Окрестная тьма сделалась еще гуще, зато стало видно, что одет он обычно, по-лагерному.
— Один, что ли? — спросил человек с фонарем, настороженно приглядываясь.
— Один, — ответил Шегаев.
— А-а-а… Ну ладно. Думал, каменщики приехали… Пошли.
Шегаев давно научился с полувзгляда делить встречных по шерстям: кто из настоящих, а кто из ссученных, кто указник, а кто мужик, кто вольняшка, а кто портяношник… Как он сразу и понял, Петрыкин был заключенным из бытовиков. Прежде железнодорожник, он и ныне работал по профессии — исполнял обязанности начальника станции, — а к тем двум подводам леса, из-за которых заварилась вся каша, вовсе, по его словам, не имел отношения и несправедливый срок свой мотал совершенно зазря…
Это Шегаев тоже давно знал: ни одного виноватого в лагерях не найти, хоть до нитки обыщись и до дна перерой; каждый здесь, по его клятвенным словам, страдал безвинно. Сомнительно, конечно… да только сомнения выказывать — себе дороже выйдет.
Большую часть времени Петрыкин тосковал в одиночестве, по отсутствию подчиненных вынужденный начальствовать над бездушными объектами — недавно законченной кирпичной водокачкой и будкой-времянкой, в которой, собственно, и обосновался.
— Условия сам понимаешь какие, — толковал он, разливая по кружкам чай — крепко, до желтизны заваренный брусничный лист. — Болота кругом, ни пройти ни проехать. Сижу вот, будку караулю. Медведь не жрет, и на том спасибо. Ну ничего, дорогу достроят, тогда уж заживем!
И туманно улыбнулся, потирая руки, а Шегаев вдруг представил себе Петрыкина в железнодорожном мундире, где строгая чернота подчеркнута красным околышем начальственной шапки.
Что касается сельхоза «Песчанский», то располагался он в стороне от дороги, глубоко в тайге, и надежной связи с внешним миром не имел. Даже расстояние до него в точности было неизвестно. Окружающая местность страшно заболочена, — толковал начальник станции, — и если кто хочет туда добраться (опытный зэк был Петрыкин, говорил обиняками, все больше про третьих лиц, без прямых указок), ему следует рассчитывать на сельхозные подводы — они время от времени приезжают на станцию, чтобы забрать почту да кое-какие грузы, прибывшие по железке из Княж-Погоста.
Слушая его, Шегаев невесело размышлял насчет того, что название сельхоза звучит несколько иронично. Если не издевательски. На сотни верст ни лопаты песка, ни сухой кочки, все болота да топи, а вот на тебе: «Песчанский». Бодрит, вселяет надежду. Сразу сосновый бор себе представляешь… прокаленные солнцем дюны… обрыв со стрижами над синей рекой!.. Даже странно, почему прежде не додумались. Как бы славно звучало — домзак «Лучезарный»… тюрьма «Хлебная»… пересылка «Радужная». Лагпункт «Счастливая старость», в конце концов.
— Вон мешки-то, под навесом стоят, еще третьего дня закинули. Должно, скоро явятся за ними архаровцы. С ними и поедешь… Зимой еще куда ни шло! А как маленько растает, колесить к ним туда не переколесить!
И Петрыкин безнадежно махнул рукой.
— Что они там выращивают, в сельхозе-то этом? — спросил Шегаев, прихлебывая чай, оставляющий на языке острый вкус душистого леса.
— Выращивают? — удивился Петрыкин. — Что там можно вырастить? Клюква да елки — вот тебе и вся растительность.
Шегаев крякнул.
— Хрен их знает. Завтра к вечеру, может, и приедут, — задумчиво предположил Петрыкин, и, чтобы вытрясти отработанный брусничный лист, хлопнул перевернутой кружкой по сосновой доске, заменявшей стол.
* * *
Насчет подвод Петрыкин как в воду глядел, с той лишь промашкой, что ждал их, как всегда бывало, к вечеру, а они пришли под утро, и первое, что Шегаев услышал, это трехголосый мат, покрывавший лошадей, дорогу, раскисшие болота, проклятые овраги, что в оттепель поплыли и наполнились водой, — и, в качестве непременного дополнения, какого-то Карпия, направившего их в эту треклятую экспедицию. Со слов матерившихся фигура безжалостного Карпия выглядела довольно зловещей.
«Карпий, Карпий!» — пробормотал Шегаев спросонья, но так и не припомнил, встречал ли когда-нибудь такого человека.
Возчики передохнули, напились чаю. Шегаев молча помог в погрузке и, пожав на прощанье руку Петрыкину, сел на последнюю подводу…
Дорога и в самом деле оказалась очень длинной. В сознании Шегаева она слилась в путаницу бесконечных объездов. Объезды не достигали цели, поскольку в итоге все равно приводили к необходимости штурма очередного овражка, на дне которого под толщей волглого снега хлюпала ледяная вода. Возчики почем зря хлестали измученных, истощенных сельхозных лошадей, подводы вязли, нужно было по пояс в снегу искать и протаптывать дорогу, рубить елки, чтобы стелить под расшатанные колеса… Когда выпадало несколько минут более или менее ровного пути, Василий, на подводе которого ехал Шегаев, не переставал осыпать матерными проклятиями все, что видел вокруг, и, разумеется, — начальника Карпия, пославшего их в эту трудную поездку.