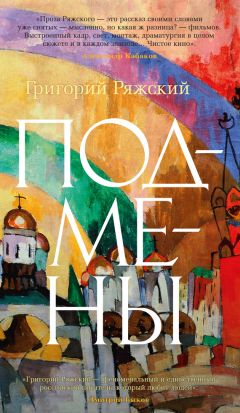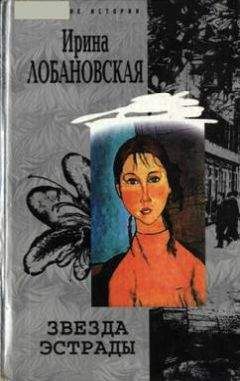Через пятнадцать лет появилась бабушка Настя, нагрянувшая для постоянной с ними жизни из своей заполярной Воркуты, где она успешно довела себя до пенсии, которую и прибыла тратить в столичных магазинах, а заодно присматривать за внуком и готовить всем еду. В общем, она была ничего, но слишком уж какая-то простая, хоть и не простодушная. Говорила, что в её и маминых жилах течёт чистейшая княжья кровь и что, значит, и в его, Лёкиных, кровеносных сосудах содержится она же, берущая начало по прямой дворянской ветке. А у отца его, Моисея, такой крови не было и нет, потому что в отцовской нации вообще никаких дворян не было и тоже нет в принципе. Там – больше по торговому направлению оседлой жизни, а ещё по музыке и зубным протезам.
Сначала он надул губы, потому что не хотел делить личное пространство тайных вожделений с кем-то ещё. Но и противиться этому вынужденному подселению тоже не мог, поскольку других вариантов не имелось. Когда же умный отец догадался поделить комнату, перегородив её стеной и образовав таким образом отдельную площадь для каждого, отношение его к бабе Насте изменилось. Из соглядатая и принудительного наставника Анастасия Григорьевна, урождённая чисто Грузиновой, безо всякой, как у Лёки, чёрточки перед чужеродным добавком, враз сделалась вполне себе терпимой родственницей, у которой к тому же и сырники получались намного вкусней маминых. Мама, кстати, вскоре вообще перестала готовить, лишь в числе прочего снабжала семейство густейшей неразведённой сметаной, от которой эти сырники, может, и казались Лёке нежней. А вообще, относился он к еде с какой-то недетской внимательностью. Не в том смысле, что капризничал или просто отказывался есть то, что не по нему, как это случается с подростками. Дело было в другом: уже с ранних лет во время еды Лёка был чересчур аккуратен и совершенно не по-ребячески нетороплив. Куриную ножку употреблял исключительно с помощью вилки и ножа, отсекая лишь наиболее мягкие части. Не освобождённый от прожилок и хрящей остаток безжалостно оставлял на тарелке. Неизменно благодарил бабушку и маму за любое приготовленное блюдо, однако каждый раз делал это так, что распознать степень признательности становилось непросто. В такие моменты Моисей Наумович не уставал в очередной раз удивляться тому, откуда в сыне его, избежавшем подобающего воспитания, взялась эта врождённая вежливость, это странное благородство, эта вовсе не детская деликатность. Что сам он, что отец его Наум Ихильевич предпочитали расправляться с куриной ножкой строго при помощи лишь голых рук, дочиста обгладывая суставный хрящ, разделываясь с ним до конечной огрызочной мелкоты и высасывая из остатка косточки все последние соки и мозги. Считалось, мало что может сравниться по вкусовым ощущениям с этой удивительной субстанцией. То же относилось и к мозговой говяжьей кости – до тех пор, пока ударами о разделочную доску не были вышиблены из неё и не высосаны последние остатки рыхловатого костного мозга, тёплого ещё, не утратившего умопомрачительного бульонного аромата, кость не считалась готовой к отправке в мусор.
«Может, и правда эта чёртова грузиновская кровь работает… – думал Моисей, глядя на сына. – Но отчего тогда эти-то такими хабалистыми уродились: что Веронька моя, что матушка-княгиня».
А потом отец внезапно предложил поехать в Крым, втроём. И Лёка почувствовал, что в семье что-то переменилось. Возможно, таким образом папа хотел отвлечься от нескончаемых кафедральных дел или, может, просто пытался встряхнуть маму, тоже непомерно устающую в этом своём гастрономе. Или у них, что тоже допустимо, наступил второй медовый месяц, как это временами случается у любящих, но редко помнящих об этом супругов.
В любом случае, было хорошо, очень. Он вставал, пока родители ещё спали. Хотелось успеть захватить рассвет на фоне гор. Лёка закреплял штатив, устанавливал экспозицию и ловил в объектив всё самое прекрасное, дарованное небом. Затем, вновь опасаясь упустить режимную съёмку, повторял манипуляцию ближе к вечеру, но уже развернув камеру в обратную сторону, на закат. В момент начала светового разлива, сперва розового и сразу вслед за тем густо-малинового, солнце по обыкновению чуть-чуть не достигало верхнего края горы, того самого, который отстоял дальше от точки наблюдения. Лёка знал, что ещё малость – и оно присядет на этот край, на минутку, не более того, потому что ещё через мгновение начнёт заваливаться ниже, неровно разрубаясь надвое острым наконечником нависавшей над морем скалы. И это тоже непременно следовало взять крупно и широкоугольным объективом.
Он возвращался и, казалось ему, обнаруживал между родителями вполне симпатичный мир. И они шли завтракать в местную кафешку столовского типа. Мама морщилась, но ела. Папа же лишь смеялся дурнопромытой алюминиевой ложке, заменявшей чайную и подаваемой в паре с гранёным стаканом едва тёплого кофейного суррогата, словно где-то под прилавком надудоненного им тёткой в дурацком кокошнике.
– На фронте такая же была, – задумчиво вспоминал он, размешивая суповой ложкой сахар в кофейной жиже, – такое ощущение, что сейчас раздастся команда и тогда надо быстро облизать эту ложку, сунуть за голенище и сломя голову нестись в расположение батареи, готовиться к наступлению.
В общем, прожили три недели душа в душу. На этот раз даже мама, предпочитавшая демонстрировать лёгкий каприз до возникновения его причины, и та была вполне довольна и даже отчасти возбуждена тем, как сложилось у них это славное крымское приключение. А когда вернулись, отец снова потускнел, ушёл в себя, стал чаще закрывать за собой дверь в кабинет, чтобы туда не доносились звуки квартирной жизни. Раньше он терпел их, почти не замечая, и иногда даже кричал оттуда домашним, не претендуя на отклик, исполненный в вежливой форме.
Но как-то незаметно для самого Лёки это всё перетекало уже на второй план. На первом окончательно поселилось фотоискусство. Лёка и в городе не простаивал, мотаясь с одной съёмки на другую: бесконечно выискивал лица, тут и там, чтобы обратить их в портрет. Бабу Настю ставил то спиной к окну, для контрового снимка, а то, развернув в три четверти, наоборот, приглушал искусственное освещение, оставляя лишь естественным образом падающий заоконный свет, и снимал одно лицо, крупно, создавая тени, играя ими в зависимости от того, как образовывались те на лице княгини, каким в результате получалась линия овала и с какой детальностью высвечивались морщины. Морщин у бабы Насти явно недоставало в связи, наверно, с северной закалённостью кожного покрова, и это вызывало у Лёки недовольство. Он рассчитывал на правду жизни, но через бабушку шёл один лишь сплошной обман, поскольку следы отжитых ею лет слишком уж неохотно соответствовали нуждам замышленного им фото. И потому они, не укладываясь в композицию как надо, не образовывали ячейку настоящего искусства.
Хотелось поснимать и маму, но та плохо поддавалась уговорам, не понимая, к чему вся эта дурь, когда отец – институтский профессор, и только скажи кому надо – сын беспрепятственно пройдёт на нужный факультет без риска быть снятым с дистанции. У них в торговле такое называлось отбраковкой, но то больше касалось не продуктов, а тары и вообще любой упаковки. Картоны, ящики, поддоны, всё прочее, включая пакетирование бумажное и из целлофана. И на всём этом хитромудрый пройдоха Бабасян имел процент. Усушку же с утруской по всей номенклатуре пищевого продукта, как и тарно-упаковочную отбраковку, вела сама она, лично. Давид поставил и строго наказал, чтоб выдерживался заданный процент, весовой и поштучно. И ни грамма, ни штуки меньше заданного. Иначе материально пострадает сам калькулятор, то бишь она, Грузинова: её персональная доля уйдёт на погашение невыбранного процента.
Об отце, в смысле портрета, как-то не думал. Тот, уже с внушительными залысинами, растекшимися по черепу, близящимися к затылку слева и справа от кустика волос, кое-как прикрывающих макушку и едва не достающих висков, не вызывал у Лёки той эстетической привлекательности, которая казалась ему единственно верной. Отец был, в общем, никакой, если исходить не из личности как таковой, а идти строго от лица. Само по себе было оно всего лишь умное, и только, без таинственных глубин, уходящих в центры зрачков. Не молод, с одной стороны, но и не особенно возрастной для того, чтобы объектив фиксировал нечто харáктерное, годное для фактуры глубокого старика или же искрящегося молодостью весёлой бездумности. Ну и нос не как у всех – больше, чуть мясистей и слегка пористей, если брать крупно. Папа, хоть был и родной и близкий, но был не модель. Зато эти оба, соседи-старики, что один, что другая, казалось, будто умышленно созданы для постановочной съёмки. Да и для любой другой сгодились бы, с превеликим удовольствием. Да хоть со спины – когда, скажем, Девора Ефимовна, поскрипывая туфельками и сутулясь, удаляется от объектива в сторону уборной, в этой своей ошпаренной вязаной кофте, в мешковинном платье до паркета или в дурацком пожилом халате с кистями. Подарок, и только. А сам?! Гнутый, как бамбуковое удилище под пудовым сомом, с этими нереально тонкими длиннющими пальцами, на которые перчаток не сыскать. С лицом, затянутым в сетку морщинистого кракелюра, от сквозного и до тончайшего, волосяного. Лёка уже знал, как создаётся подобный эффект в фотографии, когда желатиновая поверхность фотобумаги обрабатывается в специальном тепловом режиме, и тогда в поверхностном слое от разности температур образуются искомые трещинки, создающие фантом старения. Тут же всё было естественным, готовым, настоящим: ставь камеру – снимай, радуйся удаче. Жаль, что баба Настя между делом предъявляла старикам свою ничем не мотивированную неприязнь, иначе, чем чёрт не шутит, глядишь, и уломал бы подселенцев на быструю версию домашнего искусства.