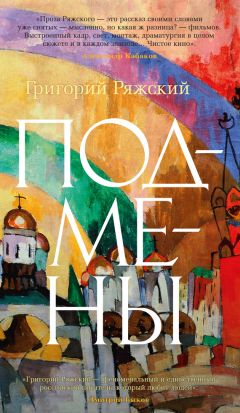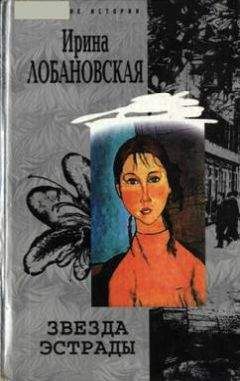Там и возникла Катя, прямо на площадке, в первый же съёмочный день. Недавняя выпускница детского дома – без жилья, но с общежитием. Общага располагалась неподалёку от ВГИКа, и их обычно звали подсобничать – за так, но с лицом в кадре и выдачей рубля на обед. Массовка-групповка в одном лице. Всего три игровые штуки и надо было, случайных девушек – персонажей. Мимо ходить и между делом строить глаза в направлении героя. После чего одна должна поскользнуться и упасть. И сидеть, растирая коленку. На коленку Лёке надо было наехать трансфокатором, взяв крупным планом в месте ушиба. И сразу же перевести фокус на героя, на первый план, и тоже быстро укрупнить, чтобы оставались одни лишь сочувственные глаза. Падать доверили Кате, как девушке с наиболее выразительными коленками. Они у неё и на самом деле были чрезмерно острыми, без занимательно-округлых суставных чашек, но то, что подходило к ним снизу и сверху, стоило укрупнить максимально. Лёка и увидал-то её из-за этих, можно сказать, коленей – девушкино лицо для первого плана не требовалось, так он, не имея нужды, и не смотрел на него, всё думал о своём, операторском. К тому же свет, как назло, уходил. И плёнка почти вся вышла: два дубля – максимум. Одним словом, искусства, какого он хотел, не получалось. И режиссёр, хоть по жизни и друг, но на площадке, как выяснилось, вёл себя по-кретински, иного слова не подберёшь: путался, дёргался, ругался беспрестанно, мечась между осветительными приборами, актёрами и ежеминутной сверкой композиции кадра. Оказалось, ни в одном, ни в другом, ни в третьем не рубил вообще, ну просто совсем. Полная профнепригодность. Зато как умнó, как славно получалось у него глаголать про кино, часами рассыпая слова про то, как низко пали корифеи, избравшие путь сердца и глáза, в то время как мир давно уже готов к иным формам восприятия первостепенной части действительности, в которой нормальная, продвинутая человеческая личность обитает не только хомо-козлинус-вульгарисом, но и как неким криптикус-игнотусом. Видеть, как и чувствовать, способно всякое животное, но зато мечтать, уметь выискать шедевр на помойке, на заднем дворе высокого сознания, в изнанке привычного чувства – это и есть авангард кино как истинного искусства. И единственно возможный путь настоящего, а не показного мастера – стремление к нему.
Также уважал латынь, режиссёр тот непутёвый. Нарыв шесть отдельных словечек и штуки четыре недлинных словосочетаний, ухитрялся мастерски ввинчивать их в творческую беседу, умело чередуя россыпь и следя за очерёдностью применения. Возможно, с учётом убойности самих причин, у неискушённого правдой жизни Лёки с первого же дня их знакомства создалось впечатление совершенной избранности нового друга, его несомненной отдельности от всякого будущего режиссёра их курса. Лишь он один, в отличие от тех, кто позвал снимать курсовую, отнюдь не скрывал избытка мудрости, несмываемым тавром выступавшей на его незрелом челе, как не скромничал и во всём остальном. Этот был на голову выше прочих – по крайней мере, именно так Лёке казалось. Тем более что про замысел свой умел как никто рассказать: как неожиданно и прекрасно основная идея фильма в его оригинальной режиссуре начнёт на глазах потрясённого зрителя внезапно перерождаться, уходить на периферию сознания, и место её займёт идея совершенно иная, верней, даже не идея вообще, а свободный поток художественной мысли, растворённой в воплощаемых по-новому образах. Самих образов тоже не будет, совсем, вместо них он оставит на плёнке и экране лишь полностью незанятое место: это и будет пространство разума – иначе говоря, ноосфера, где каждый изберёт для себя аутентичную версию, отражающую собственный внутренний мир.
– Ты пойми меня, Лёка, услышь наконец! Это будет бомба, интеллектуальный триллер! Такого вообще не снимали, никто, никакой Бергман и рядом на «Поляне» своей не валялся. Такого градуса эмоционального накала, какой мы с тобой нагоним, не достигал никто, поверь, – первыми будем, они все будут хлопушки за нами потом таскать, просить показать, как это делается! Оберхаузен, не меньше, точно говорю. Или даже Локарно, сразу в этот же год и заявимся и всех там раком поставим – карабус-костс и больше ничего!
Тогда он верил ему, когда они, перебивая один другого, мерились близостью к самой сущности. Глупости в словах его, кажется, не наблюдалось, за исключением отдельных промахов в ходе нетрезвой молодой бравады. Тут же – всё прояснилось. И тогда Лёка разом потерял интерес, догадавшись, что его надули, как предпоследнего олуха. Именно такого – не «последнего». Тем он точно сделался бы, кабы не Катя, та самая, с коленками крупным планом. Потому что через неделю с небольшим эта самая Катя сделалась для Лёки вторым по очерёдности смыслом жизни – сразу после первого, всем давно известного.
Она грохнулась об асфальт, стараясь угодить оператору, – по-настоящему. С ссадинами, кровоподтёком и коротким вскриком боли, исказившим её лицо, не входящее в кадр. Лёка сказал: «Стоп!» – и выключил камеру. Подошёл, склонился, протянул руку:
– Ушиблась?
– Ерунда… – пробормотала девушка и заплакала, сразу и по-честному, без притворства.
– Больно?
– Терпимо, – мотнула она головой, поднимаясь.
– Тогда к чему слёзы? – улыбнулся он.
– Потому что я испортила вам работу, – на полном серьёзе ответила та, явно имея в виду Лёку и его камеру, но никак не режиссёра.
– Лёкин, ну чего там ещё? – заорал недовольный друг. – Эту поцарапанную меняем. Вон ту берём, с низкой жопой, мне коленка нужна нормальная, ко-лен-ка! Все на исходную, давай, давай, свет уходит!
– Я вас провожу, – сказал Лёка, обращаясь к девушке. – Только сейчас мы кухню свою соберём, и сразу после этого провожу, ладно? – И не дожидаясь согласного кивка, крикнул ассистенту, что ведал фокусом: – Складываемся! – Вслед за тем – режиссёру, приблизившись и не отводя глаз: – Я с твоей курсовой ухожу, прямо сейчас, так что в Локарно дуй без меня. Мне и Оберхаузена хватило твоего.
Вера Андреевна и баба Настя, узнав о девушке, принялись пилить, вместе и по отдельности, используя с этой благой целью всякую свободную минуту. Не сговаривались. При этом каждая применяла по-человечески близкий уровень аргументации.
К тому времени, когда Катя впервые появилась на Каляевке, обе уже свыклись с мыслью о выборе Лёкой занятия на будущую жизнь. Горевать больше было незачем: дело сделано, песня спета, исполнитель отбывал срок. Да и по-любому оно, это никчемное, но всё же образование, числилось в высших. При этом из понятного про него было лишь то, что не имелось там царя в голове. К тому же не ясно, где деньги лежат: за что, в каком размере и с какой регулярностью дают. А вот армия-то как раз и не отменяется. Хотя, с другой стороны, оно и понятно: кому ж ещё идти туда, как не прохвостам-артистам и кинщикам всех мастей – громким пьяницам да скрытым алкашам. Мать, Вера Андреевна, сокрушалась, уговаривая обуздать молодой пыл:
– Она же никто, ты пойми, Лёвонька, она пустое место, лимитчица детдомовская и больше ничего, кроме журавлиных этих оконечностей да очей навыкате. Она ж в семью рвётся всеми путями, в прописку, в пристройство. Ни кола, ни двора, ни ума! И ни грамотности, наверно. Про честность девичью даже и не говорю: с общаги же сама, откуда любой порядочности взяться – одна низость да надувательство сплошное.
– Она, мама, готовится во ВГИК, на актёрский, – на удивление спокойно реагировал Лёка на выпады родни по прямой женской линии, – у неё превосходные данные, поверь. Она чрезвычайно чувственна, у неё замечательно гибкая психика и явные актёрские задатки. Попроси – заплачет, скажи «засмейся» – расхохочется, и никогда не поверишь, что неискренне. Из неё со временем получится великолепная актриса, и я её буду снимать, мы с ней так решили.
– Во-во! – с энтузиазмом вмешалась Анастасия Григорьевна, готовая к броску уже от собственной линии атаки. – То-то и оно, что безыскренняя, вся целиком, от трусов с перемычкой этой в заднице до коленок бесстыдных, неприкрытых. Ходит, как голожопая, аж смотреть противно. Они только одного и страшатся теперь, бесприданницы чёртовы, чтоб, не дай бог, бикини эти через ихние же юбочки не заметили. Вот и режут их до самого, не приведи господи, срамного позорища. А ты, вот увидишь, сразу же и заглотнёшь, как только твоя Катенька одно на себя натянет, а другое нацепит. И кончился ты, чистая душа, как и не был.
– Ты пойми нас, сыночка, – не унималась и Вера Андреевна, – мы же с бабушкой одного только добра тебе и хотим, а больше ничего. Мы же тебе самому только недавно сопли перестали вытирать, ты же не знаешь даже, как чай заварить, вечно не в курсе, где носки твои лежат; хорошо ещё ботинки на правый-левый сам разбираешь, без помощи. Ну какое там жениться, зачем оно тебе, для чего?! – Она прикрыла лицо руками, но тут же вновь убрала ладони. – Ну хорошо, допустим, если уж такой у вас нетерпёж, то погодите хотя бы до того, как диплом получишь, просто так меж собой дружитесь, без регистрации. И чувства заодно проверите, и глупость никакую не сотворите.