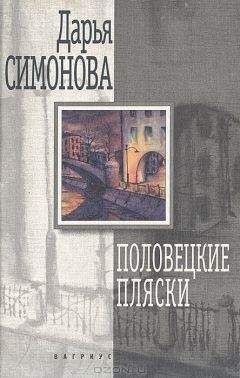Потом она смутно помнила робкие предложения Толика раздеться и лечь по-человечески. Но Елизавета Юрьевна, уже пустившая сонную слюнку, отвергла мещанский комфорт. Более того — перед окончательным отплытием к Морфею Лиза обреченно решила: никому нельзя верить, буду заново обретать девственность, обойдусь без мужчин. Очевидно, Лиза несправедливо злилась на Толика за напрасную обходительность. Долгий утомительный день сошел в забытье…
Воды утекло не то чтобы много, но одни набойки отлетели, а новые ботинки куплены так и не были. Монашеская жизнь не удалась, хотя казалась Елизавете столь возможной…
«Какой он, однако, упитанный, но компактный», — размышляла Лиза о прилипшем к ней Юнисе. Они почивали на половинке дивана, навсегда утратившего свою двухместность, но не потерявшего упругость. «Сейчас из кухни донесется запах жареной докторской колбасы, из соседней комнаты — зуд электрической бритвы и прогноз погоды. Сейчас квартира, полная заведомых недругов, зашевелится, как огромный шестипалый Шива в танце, и для людей-муравьев начнется новый день — очередной стремительный шажок в бесславие. В пустоту. О, только не об этом. Пустота — великий общий знаменатель, он, быть может, всех помирит — плебеев и патрициев, как за любым окном — одно и то же небо. Небо тоже пустое, но со смыслом. Небо, оно же Бог…»
Они с Юнисом, разумеется, не спали, и Юнис уже не улыбался. Он наулыбался до этого. Он уже серьезно:
— А почему ты меня не боишься? Я, может быть, извращенец или заразный…
— Я боюсь «вообще». А бояться в частности — кишка тонка. Иногда просто лень бояться…
— Пожалуй, ты права. А то, представляешь, история: она так боялась венерических недугов, что ушла в монастырь. А там, неаккуратно оседлав чужой горшок, подхватила «гусарский насморк». И в одночасье умерла. Печальнейшая история. Называется «от судьбы не уйдешь».
Лиза тряслась в бессильном хохоте:
— Почему горшок? Разве в монастырях горшки? И почему — умерла? Кто ж умирает от этого…
— Это для вящей убедительности. Главное — выпуклость деталей. Ладно. К черту монастырь! Пора пить кофе. А для этого нужно пробраться на кухню и поставить чайник.
— Только не я! — выпалила Лиза, вздрыгнув всеми конечностями и чуть не сбросив Юниса с дивана. — Вчера, когда я мылась, какая-то дрянь под дверью изрыгала в мой адрес проклятья…
— Насколько я помню, ты не осталась в долгу…
— Да… но теперь, видишь ли, я боюсь ответа Чемберлена.
— Нельзя быть храброй только во хмелю. Что же, ты теперь вообще на кухню никогда не выйдешь? — с веселым ужасом вопрошал Юнис.
— Мы пойдем искать подарок Рите? — благоразумно перевела тему Елизавета.
— Мы будем наконец пить кофе?
Конечно, Юнис сам возился с чайником и достал из секретера с архаичными книгами изящную баночку с ароматной кофейной крупой. Потом придвинул к дивану шаткий круглый столик, журнальный, но без журналов, зато с миской шоколадных трюфелей. Все это называлось «кофе в постель», и так оно по сути и было.
— Не знаешь ты, Елизавета, суровых шведских обычаев… Там наутро после Рождества девочка подносит родителям кофе в венке с четырьмя свечами. Чуешь, какая эквилибристика? А ты даже без венка ленишься. Стыдно, матушка. Надо всегда помнить, что могло быть хуже, намного хуже, но аллах оказался милосерден… Быстро ты забыла, как вы с Ритой тогда глаза пучили, а все это и выеденного яйца не стоило. Понятно?!
— Понятно. Не волнуйся так. Дыши глубже. Ты идешь сегодня со мной?
— На день рождения? Иду. Куда деваться. Чего мы ей дарить-то придумали? Надеюсь, не саксофон?
— Нет. Знаешь, она теперь увлекается такими маленькими барабанчиками…
— Ах, маленькими барабанчиками… ЧÍдно!
Пять часов утра. Во сне опять перья поощипали. Сон перетекает в мечту остаться в постели на всю жизнь, состариться на цветастой вышитой подушке с чашечкой кофе в руках. Спать. Видеть сон о своей жизни — как с обманчивой ясностью снится ребенку, что он садится на горшок, заправляет постель, справляется сам со шнурками… и становится взрослым.
Работа настолько изводила, что поутру невозможно было вспомнить цвет собственной зубной щетки. А имя удивляло громоздкостью.
Александра. Так не зовут. Звали Шуша — друзья. На работе она была Сашей, Сашенькой, Сашкой, Шурой — фонетика всегда оставалась шипящей. Имя шуршало опавшими листьями, дни начинались с шороха, превращались в шум.
Но на «Печатном дворе» были свои законы. Смена начиналась в 7.15. Опоздание каралось четвертованием, начальница долго слюнявила пальцы, листая «черную книгу», искала нужную графу и ставила аккуратный крестик, чтобы потом вычесть из Шушиной зарплаты рубля три себе на пряники.
Шуша с тоской думала: уж лучше бы ее по-буддийски огрели палкой по голове, чем такая тянучка…
В корректорском цеху выживали только женщины. Единственный мужчина был дядя Боря, и тот повесился. От любви, от пьянки и от жизни такой.
В буфете пахло мыльными тряпками и ячменной бурдой из бочки. Но в перерыв все приятно, можно болтать без оглядки или задумываться.
Смена кончалась в полчетвертого, когда сна уже ни в одном глазу, можно сгрызть сухой припасенный коржик и выйти на улицу. В свет. В глазах еще пляшут осточертевшие строчки и корректурные знаки, но вкус свободы от этого еще слаще. После работы наступает бессюжетица жизни.
Ирка (лет сорока) сегодня была без обычной напарницы, прогульщицы Маши. Очередной «муж» надкусил Маше сосок, и теперь у бедняги мастит или что-то в этом духе. Иркины рассказы всегда леденили душу. Не верить духу не хватало, чем мрачнее сказочка, тем охотнее ее слушала публика на «Печатном», тем веселее… Шуша привыкла. Дома она пожалуется Эмме, а Эмма — врач, интеллигент-циник, насыпет в плов побольше перца и дикторским голосом скажет: «Глупая ты, Алька… будешь много знать — сама станешь, как твоя Ирка…»
Шуше — шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать… лет, до двадцати цифры значения не имеют, зато разменянный третий десяток накидывает уже весомые годики-гирьки. До двадцати у Шуши — роман с младшим братом мужа старшей сестры Эммы Эдуардовны. Это прилично и почти по-бюргерски, по-сказочному. Семеро братьев взяли в жены семеро сестер… и пошла-поехала житуха… Но кривое зеркало исказило канон…
Началось все с Миши, точнее, с Эмминого замужества. Шуша с мамой старательно и терпеливо дожидались этого события. «Эммочке уже пора, ведь ей двадцать семь…» — говорила мама и объясняла все «поздним зажиганием». А у Шуши разыгрывалось воображение, и она представляла, как Эмма медленно горит на медленном огне. Шуша нисколько не расстраивалась из-за того, что Эмма задерживается и отстает от своих толстых одноклассниц в платьях фасона ночной рубашки… Они все остались в родной деревне под Бухарой и усердно плодились. Эмма же теперь была далекой и столичной. «Рано выходят замуж только глупые и некрасивые», — оптимизм, подхваченный Шушей неизвестно где.
Эмма — слишком старшая сестра. А Александра — слишком поздний ребенок. Одна родилась, другая уехала учиться. В столицу. Одна — мокрый комочек под названием «девочка», другая — уже не девочка. Виделись раз в год, летом. Эмма чересчур нервная и серьезная в те краткие моменты, когда не читает и не спит. Читала она удивительно беззаботно, сидя в шезлонге, раскачивая на носке заношенную туфлю на шпильке. Перед ней всегда стояла заветная вазочка, из которой Эмма поминутно, не глядя, брала персик и рассеянно высасывала из него соки, которые стекали между пальцев на локоть, а после на халат. Шуша донимала ее расспросами, Эмма огрызалась. Ей позволялось все, ее дожидались целый год, ее обожали и побаивались. Она не могла ошибиться и «неправильно» выйти замуж. Все тяготы бездомной Эмминой жизни — училище, общаги, загородный санаторий, где она подтирала попки анемичным детишкам, — как будто позади. Она наконец-то дала клятву Гиппократа, сбылась медицинская мечта идиота, Эмма поступила в санитарно-гигиенический, и на первом же курсе ее выбрали старостой, потому что она лучше всех умела притвориться общественно полезной и как самую старшую из присутствующих дам-с. Как староста, Эмма навестила в больнице некоего студента М. с вырезанным аппендиксом. Студент М. влюбился в резкий профиль своей старосты и… так они сидели, смущенные, чертя пыльные вензеля по больничной тумбочке.
Сидели-сидели и решили пожениться. Мишина семья по этому поводу благосклонно молчала. Весной все можно. Маму звали Луизой, она никак не предполагала, что сын и впрямь женится. Папа Лева тоже не думал и страдал отдышкой. У них на двоих билось одно коренастое еврейское сердце.