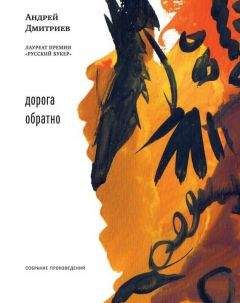Трутко замерз, рассказывая; прервался и спросил Воскобоева:
— Нравится тебе такая жизнь?
— Допустим, — сказал Воскобоев, сжав зубами папиросу. — Но ты не сказал, чьим законам подчиняться.
— Зачем тебе кому-то подчиняться? — не понял Трутко.
— Не знаю, как там это было в Америке. Но мне ты предлагаешь подчиняться дармоедам из Обуплесхоза. Подносить им водку и набивать патроны их начальникам. — Воскобоев устало сбросил на лыжню рюкзак и ружье, выплюнул папиросу, спросил: — Ты утверждаешь, мне больше не дадут летать?
— Это однозначно, — вздохнул пристыженный Трутко, и, услышав его вздох, хрипло заголосил ушибленный заяц.
— Как же не ропщет, — проговорил Воскобоев. Поднял ружье и взвел курки. Извлек зверя за уши из кармана рюкзака, бросил на наст и, прежде чем заяц пришел в себя и решился на побег, разнес его выстрелом из двух стволов. Теплые брызги ударили в глаза майору. Дождавшись, когда уляжется эхо, Воскобоев сказал ему: — Вытрись, — и размазал по своему лицу черные жирные капли.
Август в Хнове и вокруг него был нервным. Бетонка содрогалась от гула тяжелых грузовиков. Железные уши на отмели вертелись с удвоенной силой, стальные усики звенели, коробочки гудели, как пасека. Между сосенок попискивали рации патрулей, и грибники не решались забредать в лесопосадки. Хновские жители вслух гадали, станет ли райцентр ареной учебных уличных боев или же он, напротив того, назначен целью ненатурального бомбового удара. Эти разговоры выводили Живихина из себя, источник их был неясен, и полковник приказал офицерам усилить бдительность… В разгар подготовки к полигону на стол Живихина легло заявление жены майора Трутко, поступившее по почте. Галина официально требовала повлиять на майора, который, как было сказано в заявлении, ее игнорирует и презирает с целью развала семьи. Живихин поговорил с майором за преферансом, внимательно изучая свои карты, что позволило ему не заглядывать майору в глаза:
— Изменяешь?
— Нет.
— Бьешь?
— Нет.
— Тогда что?
— Игнорирую и презираю, как и было заявлено.
— Гляди у меня, — растерянно проговорил Живихин.
Трутко покинул его квартиру, забыв копеечный выигрыш. На коротком, в двадцать шагов, пути к дому майор успел обдумать и принять решение. Пока он укладывал трусы, рубашки и мундир в один чемодан, а книги в другой, Галина не плакала, запоздало решив быть гордой. Но когда он, надвинув фуражку на переносицу, подхватил чемоданы и ушел, она бросилась к соседке Елизавете, отрыдаться… Не зная, чем ее лучше утешить, Елизавета принялась жаловаться Галине на собственного мужа. Едва началась подготовка к полигону, Воскобоев стал мрачнее тучи. Он и раньше бывал мрачен, но то была апатия, угрюмая беспомощность, а теперь он зол, позволяет себе говорить ей разные грубости и совершенно не помогает в благоустройстве квартиры. Целыми днями он пропадает где-то за озером, все взвалил на ее плечи, а плечи ее скоро ослабнут, потому что она, кажется, беременна…
Галина, отхлюпав носом, ушла. Елизавета улеглась на тахту и перечитала очередное радостное письмо от матери из Кеми. Пишет ей отец, уже каждую неделю пишет, и штемпеля все разные: прошлый был псковского почтамта, а последний — смоленского. Елизавета дивилась тому, как легко ее сумрачный отец стал порхать, подобно бестолковой какой-нибудь бабочке, по стране, недоумевала, зачем, и зачем пишет, если уж смылся. «Украл что-нибудь, — успокаивала себя Елизавета, упорная во всякой своей неприязни, — а пишет, чтобы потом было куда вернуться, где лекарство подадут с манной кашей». За окном лилово смеркалось, Елизавета тревожилась: «Может, любит, оттого и пишет? — и опять успокаивалась: — Зачем было смываться, если любит? Ясное дело, где-нибудь что-нибудь украл…» Она спокойно засыпала, не дожидаясь мужа.
В полночь дежурный офицер шел по темным и гулким коридорам учебного корпуса, деликатно стучал в дверь и, не услышав отзыва, открывал ее. Пуст был класс. Тренажер темнел в углу безжизненной грудой. Ветер бродил за окном по пустой взлетно-посадочной полосе. Офицер закрывал и опечатывал дверь.
Там за озером, на заброшенном картофельном поле капитан Воскобоев всматривался в ночь, разбавленную робким лунным сиянием. Он сжимал в руках холодное ружье, изредка бросая короткие нетерпеливые взгляды по сторонам, где на равном удалении одна от другой слабо колыхались безмолвные тени. Впереди справа хлопнул яркий выстрел, потом раздались ругань и резкий истошный крик:
— Атас, капитан! В сторону!
— Как же, в сторону, — промычал капитан Воскобоев. Он поднял ружье; ладони его похолодели; они были холодные и не дрожали. Кабан шел прямо на него — шел уничтожить его, искромсать, истоптать, избыть боль, сжигающую левый бок, разорванный картечью… Не было страха, и слабости не было; Воскобоев медленно опустил ружье и замер, и ждал, не шелохнувшись; мягко надавил на спусковой крючок и упился мгновением, коротким и громким, когда мир был полон света, грохота, адского хруста сокрушенной кости врага… Кабан ухнул, как птица филин, и зарылся клыками в мокрую глину. «В четырех шагах», — сказал кто-то рядом, но рядом не было никого.
— В четырех шагах, — повторил Воскобоев. Он вдруг озяб и стал озираться по сторонам, силясь совладать с дрожью в коленях. Отдаленные тени заколыхались, задвигались, стали стремительно приближаться. Глухой ропот сапог тоскливо отозвался в животе.
— Ну ты циркач, — испуганно забормотал подбежавший Мишка, ощупывая и оглядывая тушу. — Прямо в лобешник, мамочки вы мои!
— Двести кило, то есть два центнера, — с видимым равнодушием заявил Доля.
Восторженный Мишка тыкал стволом в развороченный бок зверя и взвизгивал:
— Доль, смотри, я ему всадил!
— Всадил, да не повалил, — назидательно заметил Доля, ушел, слился с тьмой, вскоре вернулся с охапкой лапника и запалил костер. При свете высокого пламени егеря взялись за разделку мертвого тела.
— Дайте я, — сказал, прокашлявшись, Воскобоев и взял на изготовку новенький охотничий нож.
— Отдохни, капитан, — сказал Косматов. — Тут надо с толком, погуляй пока.
Воскобоев спорить не стал — отошел, нервно поигрывая эбонитовой рукоятью финки.
На рассвете он разбудил жену нетерпеливым звонком. С трудом очнувшись, она открыла дверь, и он ввалился в квартиру, нагруженный тяжелым, кое-как упакованным мясом… В долгом оцепенении Елизавета разглядывала кабанью голову, которая, не мигая, глядела на нее с окровавленного линолеума и щерила желтые тупые клыки.
— Что это? Что это? — спросила Елизавета.
— Мертвая голова, — ответил Воскобоев. — Это тебе украшение, повесишь на стенку.
— Прямо сейчас? — испугалась Елизавета.
— Спятила… Обработать надо. Я обработаю. Охотовед ихний, трепло, объяснил мне, что и как. Жарь пока мясо.
Не ответив, Елизавета вернулась к себе на тахту и завернулась в одеяло.
— Не хочешь — как хочешь, — сказал он равнодушно. — Я и сам могу.
Вскоре невыносимый смрад наполнил квартиру. Елизавете стало плохо. Она убежала к Галине отдышаться и утешиться. Чад воскобоевской кухни, проникая всюду, настигал везде. Заспанная Галина принюхалась, поморщилась и, утешая Елизавету, заварила чай с чудовищным количеством мяты.
В ночь на первое сентября ледяной ливень обрушился на Хнов. На рассвете ветер, пришедший с северо-востока и гулом крон, стоном кровельного железа возвестивший о приближении осени, разогнал и развеял тучи. Дождь и ветер промыли небо перед вылетом. Полковник Живихин огласил приказ, сказал напутствие и дал команду. Полк пошел на взлет. Один за другим самолеты взмывали в небо; пролетая над Пытавином, они преодолевали звуковой барьер, и небо содрогалось от тяжкого грома — удар за ударом, как колокол веча, как дальнобойная артиллерия, добивающая обескровленный город, как сердце осужденного на казнь. Они ушли далеко за леса, города и болота, за озера и реки — туда, где их уже ждали на море и на суше горячие злые машины, начиненные азартными мальчиками, — ушли, чтобы там, в дыму, пыли и тумане, вершить свое лихое невсамделишное дело…
Ближе к полудню, когда Галина, заскучавшая у себя в библиотеке, уже подумывала о своих щах, озерный ветер занес в тишину райцентра слитное эхо трех глухих взрывов.
— Рыбу глушат, — подсказал Галине новый литсотрудник «Хновского Кибальчиша», заполняя формуляр.
— Какой ужас, — вежливо отозвалась Галина, с ленивым любопытством разглядывая свежего человека. Литсотрудник был молод, печально улыбчив; куртка из ломкой крашеной клеенки хрустела на нем при всяком малом движении. Он и раньше приезжал в Хнов, но приезжал в костюме и ненадолго — собирал информацию для своей ленинградской газеты. А теперь он в Хнове осел, вернее, лег на дно до той поры, когда там, в Ленинграде, улягутся волны какой-то восхитительно безобразной пьяной истории…