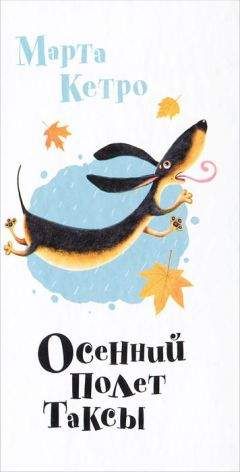— Чулки.
— Какие чулки?
— Чёрные, с кружевным верхом.
Я подтянул коробку поближе, достал несколько упаковок чулок и передал подполковнику. Мы смотрели то на них, то друг на друга. Оторопь и недоумение на лице Лаврененко. Стали претворяться в брезгливость. «Вы чего, Лаврентий Палыч, — сказал я упавшим голосом. — Ну ей-богу. Это шутка какая-то».
Продолжение шутки привезли наутро обещанные грузовики. Грузовики приехали, но не с лекарством. Собравшись на построение, мы зачарованно следили. Как из недр транспорта вылезают девчонки в военной форме и лейтенантик с папочкой в руках. А потом Лаврененко орал: «Ты кто такой? Куда ты мне баб припёр?», а лейтенантик чуть не плакал: «Разрешите доложить, товарищ подполковник! Это не бабы! Это бойцы экспериментального отряда! Прибыли на место прохождения службы… согласно… имею письменное распоряжение… адрес… всё как положено…»
— Уматывай!
— Куда же я умотаю, товарищ подполковник? Вон у меня приказ…
Лаврененко ответил, куда, но тут встрял водитель:
— Дорогу, это, развезло. С грузом назад не проедем. Сюда, это, еле добрались, обратно никак. И это, маршал, поправиться бы… как космонавты ехали… по луне то есть…
— Ты у меня не поедешь, космонавт, — отрешённо сказал Лаврененко. — Ты полетишь.
Контингент безмолвствовал. Вместо врача, санитаров и грузовика с лекарствами, посредством которых нас должны были возвращать. К нормальной жизни. По специально разработанной щадящей программе. На ферму прислали пробный взвод девах для пробного военного публичного дома. И такая щадящая программа нашлась где-то в недрах. Один знакомый говорил мне, что с этой осени девчонок тоже. Стали призывать в армию. Я ему тогда не поверил. Да и кто бы в такое поверил: девки идут служить в армейские бордели. Даже у министерства обороны есть. Пределы фантазии.
Корней
Змеиное шипение вокруг нас не стихало ни на минуту: как от земли шло, из-под ближайших кустов, ползло туманом. Я его слышал ушами, хвостом, всеми чувствами, но держался с тихим достоинством, как и положено на похоронах. Хвост опустил, нос опустил, свесился у Принцессы под мышкой скорбный и безжизненный. «Шавку-то свою не постеснялась на кладбище привести! — шипело вокруг. — На каблуках-то каких! Спеси-то сколько! Димочка бедный, какие скандалы на кафедре выносит! Уволить? А как её уволишь? С такой-то семьёй? Бу-бу — бу… Бу-бу-бу…»
Я повёл на сплетницу хвостом, послал флюиды. А! Подлый язык! Нет на свете собаки, которая желала бы, чтобы твоя родословная была и её родословной! Знаю, кто там тишком исходит грязью, а завтра подойдёт с улыбкой и скажет: «Сашенька». Всех вас знаю, всю вашу вонь! Скорбят они, блюдо на лопате! И что же, по-вашему, собака не может тоже поскорбеть, проститься и покаяться?
И вот, я вспомнил, что, когда видел Виктора в последний раз, дал зарок его укусить. А теперь он, тяжёлый и грустный, лежал в гробу, и мне становилось всё неспокойнее от запаха гроба и собственных мыслей, но никакого особенного покаяния я не ощущал. Не мы же его в гроб определили.
И вот, стоим, Дмитрий Михайлович стоит рядом и убито смотрит, как гроб плывёт к могиле, как комья земли плывут в воздухе: всё так медленно, медленно, будто понарошку. Мочливая и грязная осень сменяется колкой зимой, а мы на том же месте вросли пеньками. Я даже вздрогнул, когда Принцесса наконец развернулась и двинулась. Слава богу. А то у меня душа уже подошла к носу.
Дмитрий Михайлович побрёл с нами. Он помалкивал, и его растерянные глаза, когда он на меня глянул, смущённо потупились. Чего? И ты туда же? Тем море не испоганилось, что собака лакала.
Или это тягостные тайные мысли давили его изнутри. Бедный, наш завкафедрой не предназначен природой к борьбе, с тайными мыслями — в особенности.
— Кому понадобилось его убивать?
— Так, хулиганьё какое-нибудь.
— А вот следователь говорит, что собранные улики не позволяют исключить мотив политической или… или личной вражды.
— И что? — огрызается Принцесса. — Может, Митя, это я с ножичком вечерами бегаю?
— Саша, зачем так, — бормочет Дмитрий Михайлович и погружается в раздумье. Но быстро выныривает. — Следователь говорит, что это могли быть неонацисты.
— Когда ты успел сдружиться со следователем?
— У Вити визитннца в кармане была… Они всех обзвонили.
— Я предупреждала, что от визиток одни неприятности.
— Неонацисты ведь способны на убийство?
— Надеюсь, что способны. Но подумай сам, можешь ты вообразить неонациста, который читает Витин журнал?
— Он мог и не читая ощутить инстинктивный антагонизм.
— Да, — нехотя соглашается Принцесса. — В таком случае неонацисты определённо мудрее нас.
— Просто у них развита интуиция. Учитывая, в каком напряжении моральных и нервных сил они постоянно пребывают.
— Ты считаешь, что они действительно напрягаются?
— А ты не считаешь? У них же кругом враги, и они — враги для всех кругом. Помножь свою вражду на чужие отторжение и ужас — ведь это ад. В аду невозможно храбриться до бесконечности.
— Митя, перестань. Энергия ненависти — самая сильная. Чем больше тебя ненавидят, тем оправданнее зло, которое ты творишь. Чем ледянее одиночество, тем спокойнее совесть. Пафос лютого сердца в чём? В том, что на фоне обычных сердец оно одно достойно сострадания. На этом построена вся эстетика СС.
— Я думал, эстетика СС построена на гомосексуальности.
— Вот и всё, что мы знаем об эсэсовцах.
— Дэн? — удивляется Принцесса. — И ты здесь?
— Да, — без выражения говорит наш хахаль, на которого мы с ходу налетели. — Мы дружили.
И вот, Дмитрий Михайлович довозит нас всех на своей драндулетке до города и, высадив по требованию, едет дальше, на поминки. Мы стоим на улице посреди разгула стихий, и лапы, между прочим, мёрзнут.
— Я там никому не нужна, — говорит Принцесса, — а ты чего не поехал?
— Тоже не нужен. Не люблю поминки. Поедем ко мне? — спрашивает он всё так же без выражения.
И вот, смотрю, слушаю. Наш хахаль парадно — похоронно одет, выглядит заторможенным, а под заторможенностью у него — страшное напряжение, словно кто сидит внутри и жилы потягивает. Такое бывает, когда теряешь лучшего друга. (Неужели наш удалец дружил с этим отварным ничтожеством?) Но я также смотрел в свете взгромоздившегося в нашу жизнь Алексея Степановича Лёхи, которого ролю как потенциального нового не стану умалять. Принцесса, правда, слишком злобилась, чтобы об этом подумать. Но рано или поздно она подумает: когда Лёха предпримет Попытку или, тем более, когда не предпримет.
Наш хахаль, ничего ещё не подозревая, держал себя в руках. Но его время на глазах истекало, и когда в такси я положил морду ему на колено, мне стало грустно и жаль дурака. А он, как назло, гладит меня и говорит: «Чего сопишь, брателло? Прорвёмся».
Херасков
Я бы уже не смог заставить себя писать серьёзно. Поэтому бросил стихи. (Поэтому, а не потому, что не хватило таланта.) Ужас простых сердец перед тотальной иронией вполне оправдан: эта привычка въедается и всё разъедает. Но сплошь и рядом выбираешь быть съеденным внутри, чем сожранным извне. Как червивый гриб, если бы он мог выбирать. У червивого гриба, по крайней мере, остаётся опрятная внешность.
При этом простые сердца ещё и грубы. («Прибавлю, что это слово "простой" имеет в нашем языке такое множество значений, что его употреблять надо весьма осторожно, если хочешь быть ясным; простой — значит: 1 — глупый, 2 — щедрый, 3 — откровенный, 4 — доверчивый, 5 — необразованный, б — прямой, 7 — наивный, 8 — грубый, 9 — не гордый, 10 — хоть и умный, да не хитрый. Изволь понять это словечко в точности! За это я его не люблю». К. Леонтьев — И. Фуделю, 1891.) Я бы мог заявить, что их грубость — вовсе не панцирь, что они грубы насквозь и их корка неотличима от сердцевины, что иронией защищается тот, кому есть что защищать, что своеобразное модернизированное целомудрие… что уроки истории вообще и XX века в частности… и бу-бу — бу, бу-бу-бу… Какая разница, стихи всё равно ушли.
А вот Виктор, напротив, был апофеозом искренности, что постоянно выставляло его на посмешище. Когда он обвинял кого-либо в имперской безнравственности, невозможно было удержаться и не ответить, что имперская безнравственность предпочтительнее либеральных штампов ровно настолько, насколько Пушкин предпочтительнее Надсона. Когда у него вырвалось (по его замыслу афоризм): «лучший из миров — это американский паспорт и русская культура», — желающим даже не нужно было смеяться вслух: эффектней, чем насмешками, они добили оратора жалостью, попыткой замять конфуз. Я сам, на правах старого друга, ни разу его не пощадил. (Какой пощады от меня мог ждать человек, который говорил об Александре Зиновьеве: «Зиновьев просто сумасшедший».) Не пощадить человека, который постоянно, чуть ли не назойливо подставлялся.