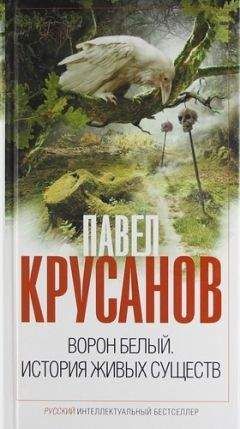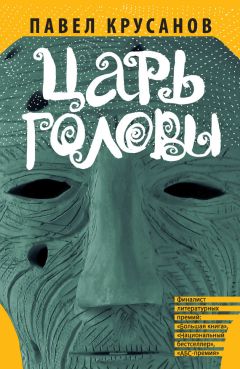– …как красна ни будь, а придет пора – выцветешь, – закончил я на свой лад мысль Брахмана.
– Я правильно поняла, – уточнила Мать–Ольха, – у членистоногих и ящеров были свои, так сказать, гордые и дерзкие? Свои мыслящие хвощи?
Брахман кивнул:
– Именно.
– Какой может быть разум у ящеров? – возмутился Одихмантий и постучал себя по лбу. – Посмотрите на объем их головного мозга. У них, даже у самых исполинских, этого добра – горошина.
– У людей этого добра – греби лопатой, но посмотрите на людей, – не согласилась с доводом Одихмантия Мать–Ольха. – Да хотя бы на сегодняшних ублюдков! По–моему, мы сильно преувеличиваем значение объема головного мозга.
Нестор хохотнул в бороду, сочтя реплику Матери–Ольхи остроумной, и добавил:
– Тем более что у деревьев мозга нет вообще.
– Кстати… – Князь поднял рюмку – все вразнобой чокнулись и выпили. – С деревьями та же история, что и с фауной. В смысле чередования расцвета и упадка. Но Брахман, кажется, не закончил.
– Да, – подтвердил Брахман. – После кошмара, стершего с Земли былую страту, на вахту, как известно, заступили млекопитающие – наш с вами, господа, единокровный класс. Надеюсь, обозначением этого родства я никого не оскорбил.
Одихмантий не отреагировал на быстрый взгляд Брахмана. Хотел было что–то возразить Рыбак, но задавил в себе сержанта.
– Теперь крупнейшие создания и сильнейшие хищники в водах вскармливают детенышей молоком, – продолжил Брахман. – С макрофауной на суше – тоже все понятно. Не до конца отвоевали небо у журавлей летучие грызуны, но тут пустил в дело человек свою техническую жилку, хотя имел пути и помимо бездушного технопрогресса, который он неполную тысячу лет оборот за оборотом, точно шуруп, ввинчивает в тело бытия. В итоге он, антропос, освоил небеса и даже прыгнул дальше – на Луну, Марс, Венеру. Практически во всех нишах нынешней зоостраты доминируют млекопитающие, а венчает ее именно человек со своими великими и ужасными культурными явлениями, в которых чем дальше, тем меньше согревающего нас тепла, красоты, телесности, душегорения. Отсюда как малое спасение – необходимость нового консерватизма. И мы будем стоять на нем и сохранять достойное, даже сознавая обреченность, сознавая, что мера эта лишь оттягивает срок. Ведь человек, полагая, что звучит гордо, в действительности – отъявленная тварь. Он не способен получить удовлетворение, поскольку колышущуюся прорву его вожделений невозможно удовлетворить. Он то мечтает о силе, то желает братства со слабостью, то добровольно рвется под ярмо закона, то попирает закон, в хлам упиваясь произволом. Он любуется природной и рукотворной красотой и одновременно захлебывается в собственных испражнениях. Его доминирующая цивилизация – техноцивилизация – несоразмерна Земле, и, поскольку человек не приемлет принцип разумной достаточности: сыт крупицей, пьян водицей, – в финале он непременно высосет и уничтожит Землю. Хорошо, если ее одну. А посему на этом пути его ждет ластик: кто же позволит человеку губить такой отменный полигон.
О чем–то похожем на отсутствие возможности у человека удовлетворить прорву своих желаний неделю назад я толковал Матери–Ольхе, когда пришел к ней изведать глубину ее контакта с флорой. Только Брахман, конечно, лучше изложил – такая уж у него работа. Странно, однако же, выходит: куда ни кинь, всюду клин – о чем в последнее время он ни заговорит, все подведет под светопреставление. А учил ведь быть как дети. Как дети – это ж, значит, радоваться надо…
– Страсти какие, – поежилась Мать–Ольха. – Села с людьми живой воды испить, а нагрузили так, что белый свет не мил.
– Все это соображения общего порядка, – успокоил перл творения Одихмантий. – В обыденности дней они в расчет не берутся. И вообще – никакой ползучей аскариде я место уступать не собираюсь.
– Речь о том, – твердо держался дискурса Брахман, – что грядущая катастрофа – а она неизбежна, поскольку, как прежде было сказано, она уже случилась и мы, собственно говоря, трещим по швам в процессе расщепления – это в первую очередь катастрофа человека. Он подвел под зачистку весь класс, и те выродки, что в будущем останутся от него и от всей зоостраты питающихся молоком, будут уже так совершенно устроены и настолько хорошо вооружены, что им не нужен будет разум, чтобы выжить. Любой разум. Даже в виде объемного головного мозга.
– Хорош арапа заправлять! – возмутился Рыбак. – Богородица, заступница наша, не попустит. В Священном Писании об этой тараканьей чехарде – ни слова.
– Потому что это Священное Писание человека, – терпеливо, как студиоза на семинаре, вразумил товарища Брахман. – А священные писания членистоногих и ящеров утрачены. Человека прошлые истории не касались, он в это время отсиживался в Эдеме – питомнике Бога.
– Желтый Зверь, – тихо спросил Нестор, – это тот, кто идет нам на смену?
– Не–ет, – с усмешкой перехватил вопрос Князь. – Те, кто в далеком блистающем мире займут наше место, сейчас в таком ничтожестве, такая шантрапа, что в них грядущих царей Земли и в мелкоскоп не разглядеть.
– Точно, – подтвердил Брахман. – А тот, о ком ты, Нестор, спрашиваешь, – испытание иного свойства. Смертельное, если лицом к лицу… Однако не конец. Разве что… пробный ластик.
Когда в сумраке начинаешь всматриваться в даль, пытаясь разглядеть детали в густеющей тьме, может примерещиться черт знает что. Я смотрел вдоль берега пруда, костер не слепил меня, и там, за границей камышей, где между ними и грядой лесополосы, над которой еще бледнело небо, ворочались густые комья теней, мне вдруг почудилось быстрое движение – волна чего–то черного, огромного катилась на нас давящей, все поглощающей массой, как вырвавшийся из хтонических глубин мрачный хрен…
Тут бодро запищала болталка Матери–Ольхи. Она поднесла трубку к уху, сказала: «Да, голубь» – и дальше уже только слушала. Лицо ее чуть вытянулось и замерло, лишь большие серо–зеленые глаза вспыхивали из–под хлопающих ресниц.
– Друзья мои, – сказала Мать–Ольха, простившись с собеседником, – китайцы сбили наш сторожевой локационный дирижабль и объявили об аннексии Монголии.
На этот раз в караул, встречающий непрошеных гостей, вместо Одихмантия заступил Князь: во сне он прокашлялся, прочистил горло и затянул такой художественный храп, что все байбаки в округе прижали уши. Должно быть, это сломанный в юности нос открывал такое свободное движение звука в его природном инструменте.
Поняв, что глаз нам не сомкнуть, мы с Нестором, не сговариваясь, выползли из палаток и сели за стол, возле тлеющих углей костра, с фляжкой живой воды, припасенной Нестором на случай. Кругом уже стояла ночь, черная, огромная – на весь мир. Берег пруда лишь угадывался, и близкое присутствие воды выдавали косвенные знаки: прохладный запах тины и редкие всплески в камышах. На небе не было ни луны, ни звезд, наверно, облака плотно, без щели, закрывали его, как выдвижная шторка закрывает иллюминатор в самолете. Мрачный хрен подобрался совсем близко, он окружал нас со всех сторон, готовый в любой миг навалиться на плечи и раздавить, – мы не видели его, а сами были перед ним открыты и беззащитны.
На закуску посекли огурец и кусок бугристой сыровяленой колбасы, к которой укутавшийся в бороду хранитель Большой тетради испытывал пристрастие. Первая же рюмка, удачно слившись с теми, что были приняты за ужином, сделала исполинскую ночь немного меньше и уютнее.
– Поэтому ты толстеешь, – глядя, как я уплетаю кружок колбасы, неожиданно заключил Нестор.
Лицо его во тьме виделось мне нечетко.
Я вовсе не толстел, много лет держал один вес, но на крючок сел мигом:
– Почему – «поэтому»?
– Пищу жевать надо.
– Я жую.
– Вижу, как ты жуешь.
– Жую. – Я демонстративно заработал челюстями.
– Каждый кусок жевать надо сорок шесть раз и только потом – глотать.
– Что здесь жевать сорок шесть раз?
– Неважно. Так положено. – Глаза Нестора посверкивали каким–то ночным, холодным, отраженным светом.
– Чушь.
– Как знаешь. Но жуешь ты неправильно.
– Жую как надо. И вовсе не толстею.
– Ладно, молчи лучше. – Прикрытый мраком и бородой рот Нестора разговаривал со мной, не производя движений, и это вызывало во мне странное чувство.
– Думай, что хочешь, а я жую, – упрямо сказал я. – Наливай.
– Ты отрицаешь очевидные вещи. – Нестор налил в рюмки живой воды. – Так поступают все алкоголики.
– Что? – Мне даже стало жарко – так быстро я вскипел. – Какой я алкоголик!
– Ну вот. – Мерзавец был невозмутим. – Я же говорю, отрицаешь очевидные вещи. Как все алкоголики.
– Я без товарища вообще не пью!
– Знаем, как ты не пьешь. Молчи лучше.
– Да что ты, с дуба на елку рухнул, ей–богу! Какой я алкоголик!