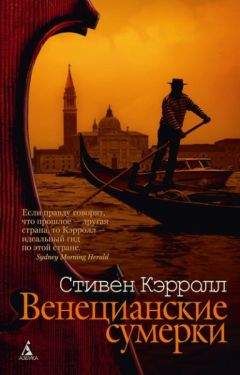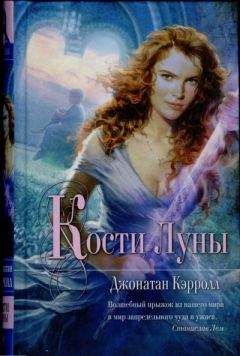Потом (Фортуни, вероятно, этот особый поцелуй заставил задуматься) Люси, точно так же как накануне, облизнула кончики пальцев и прикрыла ими его веки. Однако на сей раз его глаза не остались закрытыми, а тут же распахнулись во всю ширь — испуганно, в панике; глаза марионетки, дергающейся на невидимых ниточках и ощутившей, что эти ниточки могут внезапно оборвать.
Люси отскочила. То есть попыталась, но пальцы Фортуни крепко сомкнулись на ее запястье; его руки — руки мастерового — оказались на удивление сильными. Она вспомнила, как громыхнул он крышкой рояля, когда они поссорились; в этом чудился признак насилия, и тогда она даже сравнила мысленно Фортуни с уличным головорезом. И ей вдруг припомнились предостережения Марко, что она заходит чересчур далеко, что подобные люди не допускают небрежного к себе отношения, и на какое-то мгновение — всего на мгновение — ей даже сделалось страшно. Затем хватка Фортуни ослабела, и страх прошел. В конце концов, это были руки музыканта. Она снова ощутила сердцем резкие тоны его музыки, когда-то пробудившие ее ото сна; Фортуни меж тем целовал ее пальцы, бережно обхватывая их губами, словно это было подношение из редких тропических фруктов и королевский двор его чувств с наслаждением этот дар вкушал.
В тишине, при спокойном свете ламп, под неотрывным взглядом сонма призрачных предков, заполонивших стены, Люси медленно отняла руку.
Фортуни проследил за тем, как ее пальцы выскальзывают из его руки, оглядел комнату, где все напоминало теперь о несбывшихся ожиданиях, и неохотно сказал:
— Если тебе надо идти… стало быть, надо, моя дорогая Люси.
Люси кивнула. Да, подтверждал кивок, да, надо. Но в глазах, не отрывавшихся от него, ее меланхоличного маэстро, читался намек на другое развитие событий, на то, что, в конце концов, она может остаться.
И тогда Фортуни, совершенно не сознавая свою ошибку, сказал худшее из того, что мог сказать в тот момент. Это было ненароком вырвавшееся замечание, сказанное ласково, но открывшее перед Люси прошлое, настоящее и будущее Фортуни.
— А у тебя импульсивный характер. — Он улыбнулся и нежно погладил ее щеку. — Если бы мне удалось хоть немного тебя образумить…
Больше всего поразило Люси не само замечание, а ее реакция. Она заметила, что потихоньку начинает понимать Фортуни, понимает, что это, как нынче принято выражаться, «поколенческий вопрос». Над выражением она посмеивалась, но признавала, что за ним стоит верная мысль. Она впервые осознала, что понять Фортуни означало выйти из сферы его притяжения. И никакая печальная музыка или забытый диалект не возымеют больше над ней никакой притягательной силы. И в тот момент, когда Фортуни отнял руку от ее щеки, она могла бы поклясться, что почувствовала, как какой-то мертвый груз глухо и тяжело ударяется оземь у ее ног.
Она чувствовала себя легкой, невесомой. Выйдя от Фортуни и перебегая мощеный дворик, Люси прислушивалась к воображаемым шепотам — Марко, Салли Хэппер, покойной матери; тянущиеся за ней в жарком, пахучем воздухе, они спрашивали, что она пьет — воду или волну…
В эту минуту Фортуни, бывший «скрытым лицом» ее отрочества, начал блекнуть, как фотография в процессе проявки, показанном наоборот; таять в мутном растворе, обращаясь даже не в прошлое, а в ничто. Образ этот стянулся в ее сознании в белую точку, а потом и вовсе исчез — конец, какого следовало ожидать. Все, что ей осталось, — это образ того Фортуни, которого она только что покинула. Прежний, ее Фортуни исчез навсегда. Ведь когда отжившие сны движутся к концу, то происходит это быстро, независимо от спящего и самого сна. А когда они исчезли, ты открываешь глаза и, пожалуй, впервые видишь все отчетливо. Тебя обманули: это был всего лишь сон.
И вот Люси стояла во дворе дома Фортуни, озираясь, словно наполовину проснувшись от десятилетней спячки, что заставила ее пересечь океаны, пространства и годы. Оставив в прошлом смутный образ сумеречного божества — самый чарующий из мифов, ныне померкший в ярком, резком свете фонарей во дворике и на пустых площадях, — она возвращалась извилистым путем к себе.
Назавтра Фортуни позвонил ей, оставив сообщение, на которое она не ответила. Позже, днем, когда Люси шла к Марко репетировать отобранные накануне мелодии, Фортуни позвонил снова, в голосе его слышалась легкая озабоченность, но она снова не ответила. Она укоряла себя за то, что игнорирует его; в ушах снова и снова звучал ее собственный занудный голос, повторявший: «Я думала, ты не такая, но все же ты ничтожество. Трусливое ничтожество. Признайся!» Сообщение можно было проигнорировать (по крайней мере, на какое-то время), но реальность происшедшего проигнорировать было нельзя. Вот бы он просто исчез, поблек, как фотография на солнце. Как это было бы кстати…
Но, едва позволив себе эту мысль, Люси тут же от нее отреклась. Нет, это не она. Это какая-то другая Люси. Но в комнате больше никого не было, только эта девушка, которая не могла и дальше отвергать реальность и не отвечать на звонки. И тут же, как всегда, ее посетила неизбежная — и бесполезная — мысль: вот бы просто обо всем этом забыть. Был бы Фортуни забавой, игрушкой, которую хочешь — вынешь, а хочешь — уберешь подальше. Пусть бы она знала о нем, почитала его, рисовала его образ в мечтах — но только на расстоянии. А он бы ее не знал. Но сейчас в конце всей этой истории чье-то сердце неминуемо должно разбиться.
Конечно же, она увидит его снова. По меньшей мере раз. Но не сейчас. Не во второй половине дня и не вечером. Вечером трио студентов: Марко, она и Гильермо, их соученик, — играли на площади, и слабая, грустная улыбка озаряла лицо Люси, когда она вслушивалась в ритмы ча-ча-ча и всех тех модных мелодий, которые подобрал Марко.
И непроизвольно, запутавшись в мешанине чувств, Люси расхихикалась над манерой Марко смаковать английские слова. Над его манерой произносить: «Ох, я так люблю английский!» — именно с тем верным балансом иронии и искренности. Почему она смотрела и не видела? Но, даже спрашивая себя, Люси знала ответ, и, пока она шла по мосту на остров Джудекка, ее смех стянулся в молчание.
Как случается такое? Как могло случиться так, что в ближайшие шесть месяцев и во все последующие годы стоило Люси увидеть пятифунтовую бумажку или даже подумать о ней, как на глазах у нее выступали слезы?
Они сидели у Марко в его квартире, озаренной послеполуденным солнцем, повторяя мелодии для вечера, когда Люси, вдруг прискучив ими, без предупреждения заиграла Элгара. Она погрузилась в музыку, словно в теплую ванну, где можно забыть о себе, забыть обо всем, и достигла уже как будто полного забвения, но вдруг, без всякого предупреждения, на ее музыку обрушилась сверху стремительная последовательность нисходящих нот. Словно налетевшая стая ласточек пошла бомбить тебя с пике. Люси подняла глаза на Марко. Он даже не смотрел на свою скрипку, а уставился куда-то поверх крыш, импровизируя на слух. Люси мгновенно опустила голову и ударила смычком по струнам виолончели, заполняя комнату резкими, режущими слух нотами, за чем последовали длинные, мучительно тянущиеся звуки, словно ноты, скользя, сливались друг с другом. Не успела она закончить эту секвенцию, как на нее снова хлынул водопад звуков. Ноты Марко то вклинивались в ее мелодию, то шли сами по себе, изменяя всю композицию, так что Люси бросила Элгара и принялась просто импровизировать вместе с Марко.
Минут двадцать, а может быть, тридцать (Люси с Марко совсем позабыли о времени) они атаковали и контратаковали, иногда прилаживались друг к другу и пасомые ими звуки словно бы соприкасались высоко в воздухе, смешивались, а затем внезапно разделялись и следовали своим курсом. Музыканты то играли вразнобой, сторонясь друг друга, то вновь бросались друг другу навстречу, ноты их инструментов сталкивались, не хватало только хлопка́. Волосы Люси выбились из-под повязки, челка Марко упала ему на глаза. Их судорожные попытки откинуть волосы со лба кончались ничем: оба были слишком захвачены игрой. Подобной музыки Люси никогда не исполняла и даже не представляла себе, что будет исполнять; в ней соединялись гармония и диссонанс, настырность и робость, заигрывание и пренебрежение, серьезность и взбалмошность, нежность и жестокость, уверенность и растерянность. Все это и многое другое.
Когда они оба, полностью измотавшись, наконец остановились и стали разглядывать друг друга — волосы растрепаны, лоб и руки в поту, глаза безумные, — на них напал бессильный, но неистовый хохот; каждый как будто спрашивал другого, с чего это началось, откуда вообще возникло и что означает, и каждый в то же время прекрасно знал и откуда оно взялось, и что означает.
Смех понемногу стих, музыка отзвучала, но в воздухе словно бы повисло воспоминание о ней. Люси прислонила смычок к стулу, Марко положил скрипку на стол и склонил голову в поклоне. Этот жест означал большее, чем просто комплимент, — это было признание артистического равенства, а может, и превосходства. Люси ответила кивком, в свою очередь искренне признавая мастерство Марко. Все вокруг называли его игру захватывающей, пьянящей, но впервые он при Люси позволил такую свободу своим пальцам. Глаза его вспыхнули, он посмотрел ей прямо в лицо.