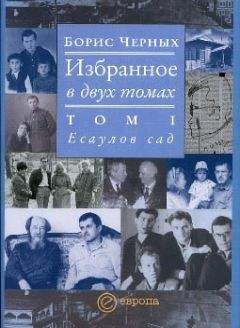Серёнька заметил сразу, что девочки за минувшее лето стали долговязыми и переросли мальчиков, и было забавно видеть девчачий лес с мальчишеским подлеском. Неужто летние слепые дожди и ливни пали только на девчачье царство, подвигнув его к непомерному движению вверх и вширь?
Образовав стройное каре, школа дождалась трели звонка и наблюдала щемящую, трогательную картину – из парадных дверей вывели стайку теплогубых малышей, юная учительница сопровождала их, белый нагрудный бант оттенял смуглое урийское лицо. Лет десять назад, наверное, такой была Тина; и тут Серёнька представил на миг эту юную учительницу у себя дома: она принесла заказ, из ситчика, и он должен снять мерку. Мысль эта – невпопад – чуть насмешила мальчика, он хохотнул, чем обратил на себя улыбчивый взор Тины, и тут же сделался внимателен и молчалив.
Первачей подвели к выпускному классу, из его рядов выдвинулась дивчина. Серёнька признал в дивчине расцветшую Таю Фатееву, и свой фартук признал на Тае. Тая, стрельнув по всей школьной линейке карим оком и вроде бы испрашивая разрешения или согласия, чуть потерзала каждого из первачей за ушко. Смешной этот обряд посвящения в школьники всегда нравился всем удивительной простотой и многозначительностью, и вся линейка, или каре, глухо посмеялась, как бы сразу объединившись и обещая беречь малышей, не обижать их.
А над школьным хороводом царила Анастасия, седая и мудрая женщина со свирепым оскалом рта. Даже тени улыбки не прошло по ее лицу; все, кто знал ее, принимали как должное державный вид Анастасии.
Наконец, старшие и младшие классы чинно и неторопливо потянулись к школе, на этажи, и начались уроки. Серёнька услышал невнятную музыку – то ли хор, то ли оркестр поднимал к куполу мелодию, кто-то говорил речитативом, и вступали голоса, поминально сопровождая нечто уходящее, гаснущее, растворяющееся во времени. Если бы мальчик умел назвать эту музыку, он сказал бы – то Реквием по школе, по детству, промелькнувшему быстролетно.
Но Сергей вспомнил маму, стал думать о маме: как она там, в кухонной светелке, наедине со своими мыслями о прожитом?…
Да, надо уходить с уроков, пора. Мама ждет. Летящий профиль Пушкина на стене, прости, я должен уйти и забыть о тебе, и лица одноклассников погасить в памяти. Вячик, я надеюсь, ты будешь забредать ко мне чаще. Прощай, Тина…
Но и третий урок Серёнька досидел до конца, будто прикованный к парте. Когда очередной звонок позвал всех на перемену, Серёнька чуть помедлил, не дал воли сорваться, затем взял портфель и кивнул прощально Пушкину.
В суете перемены никто не заметил, что мальчик уходит с уроков, уходит навсегда, и только зоркая Тая Фатеева узрела что-то в скособоченной фигурке мальчика, быстро подошла и прошептала: «Ты к маме, Серёжа? Иди, иди. Я прибегу к вам… к тебе», – поправилась она, погладив его по руке. Серёнька, благодарно сглотнув слюну, чуть было не лизнул Тайну руку. Он был уже у парадной двери, празднично распахнутой, когда из библиотеки внезапно выдвинулась фигура Анастасии; одним взором Анастасия остановила беглеца, он оцепенело встал.
Анастасия возложила тяжкую длань на плечо мальчика. Подчиняясь тяжкой руке, он вновь поднялся на второй этаж, вошел в директорский кабинет. Там, перед ликом мудрейшего вождя всех времен и народов, мальчик замер, ожидая казни. Он считал себя достойным казни за самовольный уход с уроков, и в какой день – Первого сентября.
Анастасия села в монаршье свое кресло и низким голосом, почти басом, приказала:
– Садись.
Мальчик сел, примостившись на край стула, и смотрел в грозное лицо директрисы. Зазвонил телефон. Рука Анастасии подняла трубку.
– Ну! – сказала в трубку Анастасия, будто кто-то должен ей и докладывал о возвращении долга, слушала ответ, мрачно глядя на мальчика.
«Уж не обо мне ли речь?» – подумал Серёнька со страхом, хотя понимал, что никому он не нужен в этом мире, кроме мамы.
– Школа перегружена и работает в две смены, – сказала в трубку Анастасия, – дышать нечем. Вы хотите, чтобы дети сидели на уроках в противогазах? – и громыхнула трубкой о рычаг, молчала минуту, видимо, успокаивая сердце, если оно было у нее, сердце.
– Я знаю, Сергей, что Августа Васильевна ослепла. Что я могу?… Я могу договориться с классными руководителями, мы составим график. Все ребята по очереди будут дежурить около твоей мамы. Каждый в учебном году пропустит один день. Терпимо. Зато ты будешь учиться дальше.
– Нет, я не буду учиться дальше, – ответил мальчик.
– Тебе надоела школа? Я не поверю, что Сергею Белых надоела школа. Пусть другой это говорит, а ты, книгочей, любишь школу.
– У мамы нет пенсии. Поэтому я должен работать, – отвечал мальчик. – И за мамой нужен пригляд.
– А пенсия за отца?
Серёнька с печальным недоумением посмотрел на Анастасию. Пенсия за отца! Придумает же.
– Прости, – сказала Анастасия. – Я вдруг вспомнила, что твой отец в бессрочном путешествии по мрачным пропастям земли.
Анастасия угрюмо задумалась, глядя в стол, покрытый зеленым сукном. Хороший зимний костюм получился бы из этого сукна, промелькнуло у мальчика, такой материал пропадает, но тут же устыдился промелька и поник головой.
– Передай маме привет от меня, – сказала Анастасия.
Мальчик неловко встал со стула, пошел из кабинета, прикрыл дверь. Гулкая тишина стояла в школе. Чтобы не потревожить тишину, мальчик крадучись спускался по мраморной лестнице и вздрогнул от поклика. Оказывается, Анастасия звала его на минуту вернуться. Мальчик вернулся. Анастасия взяла книгу в крепком переплете, открыла титульный лист, что-то вписала и протянула:
– Это тебе, Сергей, на память о школе. Не сердись на меня, однажды я наказала тебя, – у державной женщины сдвинулось лицо и влага как будто блеснула в жестоких глазах.
Мальчик ушел. Книга, которую он нес под мышкой, была тяжелой и занимала его мысли, и он забыл о том, что на обратном пути хотел вновь забраться в Есаулов сад. Дома, у калитки, Серёнька всмотрелся в кухонное окно, увидел мать, сердце успокоенно осело, тогда он позволил себе поставить на лавочку у калитки портфель и заглянул в книгу. «История моего современника» Короленко. Мудрая Анастасия знала, что надо сказать отроку, когда он уходит в домашний скит, в отвержение.
Прихватив портфель, мальчик с раскрытой книгой вошел к маме.
– Послушай, мама, что написала Анастасия Степановна на дареной книге: «Сергею Белых в уверенности, что он накинет голубой занавес на городские наши печали».
– Ого, – сказала мама, – ого! Ай да Анастасия, а мы-то считали ее чиновной педагогиней.
Под шелест страниц толстенной книги и стрекот швейной машины миновал первый календарный день осени.
Сентябрь стоял, как по заказу, ведреный, прозрачный в нитях паутины. Запахи перезрелых окраинных лесов наплывали на Урийск, мешались с молочным духом подворий. Вечерняя заря, раскалив докрасна широкий серп, долго освещала город и розово меркла за высоким погостом. В утренние часы кто-то большой и добрый, переступая мягкими лапами, заглядывал под кровли домов, и странные сны снились урийцам в сквозные утренники.
Намаявшись за день, Серёнька спал как убитый, но под утро и к нему приходили небожители, среди невнятных образов мальчик угадывал образ отца; Серёнька просыпался и приступал ко дню, не развеяв настроение зыбкой утренней встречи. Но суматошный день забирал мальчика, он отдавался урочной работе самозабвенно.
Перво-наперво он засыпал завалинку провеянным на солнце шлаком и накрыл горбылем, иначе позднеосенние дожди зальют завалинку, и дом исподу потеряет теплую подушку. Потом, боясь внезапной тучи, он ринулся рыть картошку, мать помогала сыну, вслепую перебирая клубни, сортируя их. Помолившись про себя («Господи, всевышний и всеблагой, не насылай дождика раньше времени»), он укрепил стенки свинарника, уминая колотушкой опилки, чтобы зимой сквозняк не прошиб свинарник, – и все поглядывал на север, откуда попахивало осенней прелью, и заметил темные тучи, застившие холмы над городом. Серёнька пришел в отчаяние, он не успеет убрать огород, а мга подвигается к городу. Но на помощь пришли Вячик и Тая Фатеева, а следом набежали соседские женщины: «Да мы что, некрещеные, что ли, – вскричали они. – Ить и мы греховны, вот и замолим грехи».
Серёнькина мать посмеивалась, чувствуя общий настрой на дворе и огороде.
Но являлись и в эти дни модницы, требуя внимания, мальчик в полуотчаянии крутил большелобой головой, напуская суровость и важность, но доброта, свойственная ему от рождения, унаследованная от мамы и отца, подсказывает деликатные слова, и он обещает к седьмому ноября исполнить трудновыполнимое обязательство, – и неотвратимо, стремительно набирает мастерство, или, как говорят в Урийске, набивает руку.
Наконец, тучи берут в полон город со всех сторон, но кто-то придерживает ненастье за удила. А урожай убран и даже уголь припрятан под навес (с углем опять помог Титаник), и можно, врубив электрический свет – так плотно перекрывают солнце осенние тучи, – полностью отдаться работе. Мальчик постепенно усложняет рисунок покроя, изощряет собственное видение, догадываясь, что становится художником, причем вольным. Да, вольным, я не оговорился.