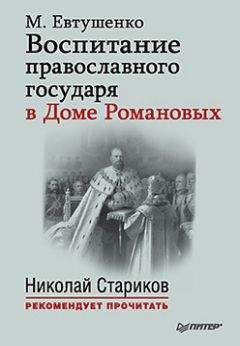— Ну, ты психолог, командир! — язвит Людка. — И где тебя таким премудростям учили?
— На бороде!
— Оно и видно!
Ваня не лихачит. Он старается быть аккуратным. Но не может все время контролировать маму. И на этом дурацком повороте мама умудряется зацепиться веслом за корягу. Ваня не видит. Он только чувствует,
что лодка отказывается подчиняться. Они застряли. Остальные уже далеко впереди, причалили к берегу.
— Давай, давай! — кричит командир.
Ваня «дает» как-то неправильно — и мир переворачивается вверх ногами, становится холодным и мокрым. Мама перестает соображать. Ваня зацепился за лодку, а ее сильно отбросило в сторону. Она еще худо-бедно удерживается на поверхности, но река швыряет ей в лицо пригоршни воды, и она хлебает, хлебает. Может, она уже тонет?
— Мужики, ловите лодку!
Отец бежит по берегу, на ходу сбрасывая сапоги, и прыгает в воду. Он хорошо плавает, мой будущий отец, — так же хорошо, как катается на санках. Мама чувствует рывок за ворот и короткий приказ:
— Дыши!
Она со звуком втягивает в легкие воздух.
— А теперь греби! Шевели руками! Шевели, говорю! Помогай!
Отец тянет ее к берегу, стараясь удерживать лицо над водой. На берегу их уже ждут: три пары рук помогают отцу с его ношей выбраться из реки.
— Парень в порядке? — коротко спрашивает отец, аккуратно усаживая маму на землю.
— В порядке. Поплевал маленько — и все. А Петрушка?
— Нормально, — отец вертит мамино лицо из стороны в сторону. — Нормально. Ставим лагерь.
— Помочь?
— Сам справлюсь. — И хочет взять маму на руки.
— Пусти, я пойду!
— Ну, давай. Осторожненько. Испугалась?
Мама молча кивает.
— Эй, а ну-ка — не дрожи так.
Отец находит свой рюкзак, вытаскивает одежду— для себя и для мамы, шерстяные штаны и тельник:
— На-ка, переоденься. Пока палатки ставим.
Мамины вещи промокли. Отец мог бы взять вещи у Людки, но хочет видеть маму в своем. Она уходит за кусты и пытается приладить на себя смену. Все ужасно большое. Как и отец. Штаны спадают. К счастью, в кармане находится веревочка, имама подвязывает ее у пояса, закатывает штанины и рукава. Вырез тельника слишком велик и открывает слишком много. Мама зажимает его спереди в горсть и в таком виде появляется у костра. Все на нее оборачиваются. Кто-то присвистывает.
— Ну и декольте, Петрушка! Ты неотразима! Сплошной соблазн. — Мама не понимает, шутит Людка или говорит всерьез.
— На-ка, выпей! — Ей протягивают чашку с горячим.
Маме приходится наклониться вперед, она забывается и протягивает руку. Тельник предательски обвисает. Мама в ужасе прихватывает его и прижимает к груди. Чай разлетается обжигающими брызгами, чашка падает на землю.
Людка хохочет:
— Ну, ты даешь, Петрушка! Прям французское кино. Мужики сейчас спортом побегут заниматься!
Отец цыкает на Людку и говорит, обращаясь к маме:
— Сиди, подам. И сырое повесь на веревку. С ночевкой — рокировка. Ваша с Людкой палатка промокла. Людка пойдет спать к ребятам, а ты — сюда.
Мама думает, что веревка у костра общая, и как же она повесит здесь лифчик. Ведь все увидят. Трусы — ладно. А вот лифчик…
Людка ухмыляется:
— Считаешь добычу законной, командир?
— Молчи у меня.
— Волчище ты серый!
— Завидно?
— Еще чего! Я Ваньку греть пойду. Он тоже тонул, а ему — ноль внимания.
— Вот и сходи.
Людка уходит. На прощанье она делает маме какие-то знаки, но мама думает только про лифчик: как она повесит его на веревку у костра. А если на елку, за палаткой, он же к утру не высохнет. Лифчика не было в списке снаряжения. И она не взяла сменный. Она забыла, что все в рюкзаке промокло.
— Иди, укладывайся, Петрушка.
Мама послушно бредет к указанной палатке. И только заползая в спальник, понимает, что это — палатка отца. Она сворачивается в клубок и начинает дрожать — от пережитого напряжения и того, что надвигается. И так, не в силах унять дрожь, погружается в полудрему. Скоро голоса у костра смолкают, и отец оказывается рядом. Он крепко обхватывает ее поперек живота, прижимает к себе и спрашивает:
— Ну, что ты, девочка? Ведь все в порядке? Правда?
Маме не кажется, что все в порядке, она только сильнее дрожит. А отец еще сильнее прижимает ее к себе и все шепчет:
— Тише, тише! — Как будто ее дрожь способна чему-то помешать.
Рука отца ныряет под тельник и находит мамину грудь. Мама дергается, но маленькая грудь только глубже погружается в его большую ладонь. Пальцы отца умело теребят и выкручивают сосок, и эта часть тела начинает жить своей жизнью, ласкаясь и нежась, прося еще. Мама краем сознания удивляется, что это может быть с нею, и выгибается, откидывая голову. Но не успевает за ним. Он дышит все чаще, рывком поворачивает ее на спину, тяжело наваливается и шарит по бедрам, освобождая от штанов.
— Нет, нет, нет!
— Ну, что ты, что ты! Все хорошо, все хорошо! — и быстро, мелко-мелко целует — снова вшею, и в грудь, заставляя отвлечься. Но мама чувствует, все равно чувствует, как что-то чужое, инородное, совсем неласковое пробивается к ней, грозя ужалить. И боится.
— Нет, пожалуйста, не надо!
Он не хочет остановиться, не может. Потом успокаивается, перестает давить, осторожно целует в закрытые глаза, подбирая губами слезы:
— Ты что — в первый раз? Дурочка моя…
Шарит рукой в углу палатки, находит какую-то тряпку:
— Подложи пока. Пойду воды согрею.
Отец возится у костра, пробует воду пальцем, снимает кан с огня и отправляет маму за кусты — мыться, а сам ждет, чтобы в нужный момент отвести к палатке. Мама тихая, послушная — как после тяжелой болезни. Они залезают в спальник. И отец снова прижимает ее к себе, гладит по голове и дышит в растрепавшиеся волосы. Он впервые называет маму по имени:
— Слышь, Анечка! Ну-ка — взгляни на меня: выйдем с маршрута — поженимся.
***
Лес был его царством, с понятным порядком, с ясным делением на мужское и женское, с четким определением функций — прозаичных и героических одновременно. Он научил маму видеть обещанные закаты и росу, приносящую облегчение натрудившейся за день траве, чувствовать густой лесной запах, натянутый на верхушки деревьев птичьими голосами.
И мама ходила, почти не касаясь земли, потому что отцовское чувство подняло ее в воздух и окутало с головы до ног. И все другие мужчины тоже теперь на нее смотрели, хотя она осталась все той же — маленькой, подросткового еще сложения, не какая-то особенная красавица. Не только на маршруте, но и потом, в городе, на нее вдруг стали бросать взгляды, выделяя из толпы, вежливо уступая место, заглядывая в глаза, — такую ауру желанности несла она с собой. И Людка уже не смеялась, а лишь удивлялась и уважительно замечала: «Петрушка! Командир от тебя совсем спятил. Как это ты его? Вроде весовые категории у вас разные!»
…Лес был его царством.
Сначала лес, потом — тундра.
— Поедем на Север, Аня! Там есть работа. Хорошая. За большие деньги.
— Это для тебя есть работа.
— И ты как-нибудь устроишься.
— Я не хочу «как-нибудь». И Север — не лучшее место для детей. Витька и так из болезней не вылезает.
— На Севере тоже люди живут!
— Я — не «люди». Я — это я. И почему ты всегда думаешь сначала о себе?
— Почему— о себе? Я о нас думаю. Хочу, чтоб мы вместе поехали.
— По-твоему, я должна все бросить и тащиться за тобой в тундру? По полгода не видеть света? Чтобы мои дети забыли, как выглядят яблоки? Знаешь, я тебе не жена декабриста!
И он отвечает — с жесткой усмешкой:
— Забыл. Ты — другой породы: отказалась — и нет проблем. Кажется, так у вас в роду принято?
***
— Мам, а жена декабриста — это кто?
— Были такие женщины. Их мужья назывались декабристами — потому что подняли в декабре восстание. Декабристы хотели убить царя. Но у них не получилось, и их схватили. Пятерых — самых главных — сразу казнили, а остальных отправили в Сибирь, в ссылку.
— Они были плохие?
— Нет, хорошие. Наверное, хорошие. Они были передовыми людьми и хотели улучшить жизнь.
— А их жены тоже хотели?
— Их жены сначала ничего не знали. Это были мужские дела. Но когда декабристов отправили в Сибирь, их жены поехали туда за ними.
— Почему?
— Что — почему?
— Почему поехали?
— Не хотели бросать своих мужей. Хотели быть рядом с ними, чтобы поддерживать.
— А бабушка?
— Что — бабушка?
— Бабушка не поехала?
— При чем тут бабушка?
— Ну, она не поехала к дедушке?
— Бабушка не могла поехать. Дедушку отправили в лагерь. Далеко, на Север. Ему даже письма писать не разрешили.
— Он был декабрист?
— Нет. Он был инженер. Хороший инженер. Железнодорожник.