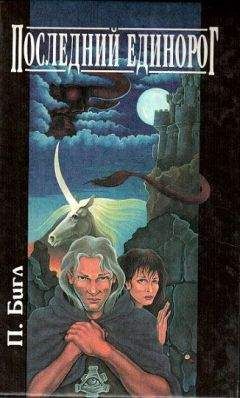Чашкин переступил порог приемной и встал. Баба Вера-уборщица домывала, должно быть, в директорском кабинете.
Чашкин стоял, поджидая, и с удивлением слушал, как светлая пустота приемной прямо-таки выпихивает его назад, в темень коридора! Без злобы, но и без приязни. Словно он — инородное здесь тело.
Озлобленно пыхтя, на четвереньках, без стеснения воздев зад и плавно-протяжными движениями мокрой тряпки выволакивая за собой мусор, выползла из директорского кабинета баба Вера.
— Чо тебе?
Она глянула на Чашкина снизу вверх, из-за плеча, и по ее азартно распаренному лицу было видно, что она сейчас одинаково готова и облаять его с обычной своей непомерной злобой и, совсем напротив, распрямившись, перекинуться парой-тройкой добродушных слов с человеком, прекрасно ей знакомым.
— Да вот… — морщась, промямлил Чашкин, быстро уставившись взглядом в сторону и с трудом перемогая в себе стыд, почти страдание оттого, что мелькнуло его глазам что-то позорно-драное, грязно-голубое, никакому взгляду не предназначенное… — Вот. К начальству бы надо. Они небось не скоро еще?
Баба Вера стала с готовностью подниматься. С многосложной болью в спине, в пояснице, в коленях выпрямилась, быстро отерла лицо сгибом руки и убежденно заговорила:
— Это только ты, Ванька-дурак, да я дура, до света подымаемся горб на них ломать за восемьдесят рублей в месяц, дерьмо из-под них вывозить да пустые бутылки. А они, мил-человек, в это время еще сладкие сны смотрят (тут она зло-актерски хохотнула), как бы тебе, дураку, да мне, дуре, еще лучшее жизнь сделать: чтобы мы и вовсе спать не ложились!
Сколь ни помнил Чашкин бабу Веру, всегда она была вот такая: в злобе на весь белый свет, ничем не довольная. (Что-то смутное вспомнил тут Чашкин из рассказов Антониды о бабе Вере: без мужа растила дочку, дочка уехала, к внукам бабку не подпускает…)
— А вот эти тряпки откудова?! — вопрошала между тем баба Вера, чуть ли не тыча в лицо Чашкину каким-то драньем. — Думаешь, казенные? Ха! Это, не поверишь, еще Олькин халат, сама шила! А вот это — мешок, в запрошлый год из Егоровска комбикорм привозила! А ты говоришь…
Чашкина вдруг опять болезненно окатило, уже знакомым слабеньким ознобом неболезненно продрало. «Что ж это со мной? Столб-столбом стою зачем-то в приемной… тряпки мне в лицо тычут… А я вместо того, чтобы…»
— У меня, баба Вера, мать вроде как помирает, — сказал он. — Телеграмму вот сегодня принесли.
Бабу Веру будто на взлете подсекли. Руки с протянутыми к Чашкину тряпками она по-актерски бессильно обронила вдруг. Лицом разочарованно поскучнела.
Отворачиваясь к ведрам, в лицо ему не глядя, сказала с хмуростью в голосе: — «Что ж… Немолодая уже, наверное? Все там будем»… — и вдруг ужасно обрадовалась случившимся словам. Почти с весельем повторила, почти пропела: «Всс-е там будем!» — и еще раз повторила, и еще раз.
Ловко опеленав тряпкой щетку, небрежно и властно выгнала мусор в коридор. За десять секунд управилась.
Остановившись в дверях, оглянулась:
— Ну, а к этим зачем?
— Да позвонить вот хотел. Может, позволят?
Она коротенько подумала. Сказала, как приказала: — «Тогда сиди-жди! Любка-то маленько раньше, чем они, приходит», — и пошла. И снова, непонятно от чего взбодрившись, словно бы с вызовом кому-то запела в коридоре: — «Всс-е там будем! Всс-е там будем!»
Чашкин сел на уголок стульчика и стал ждать — как проситель. — с вялой досадой удивляясь на себя, севшего почему-то именно так, на уголок стульчика, сразу же покорно-терпеливую позу приняв именно просителя.
«Цок, цок, цок!» — бойко-весело застучали в коридоре остренькие каблучки. — Дядя Ваня! Привет!
Молоденькая, сияюще-умытая, влетела в приемную Любка.
Может, ей и хотелось говорить посдержанней (повод все-таки был не из веселых), да только никак невозможно было ей сдержать упруго рвущееся из нее наружу утрешнее веселье жизни. Семнадцать лет ей было.
«Вжик! Вжик!» — скинула сапожки. Одной рукой принялась расстегивать-снимать шумно шуршащую, пухлую, празднично-алую (аж какое-то розовое марево распространяющую!) куртку, другую руку — ладонью — протянула к Чашкину: — «Давай телефон, дядя Вань!»
Тот поспешно вскочил, предупредительно вложил в ладошку обрывок от сигаретной пачки, на котором лет пять назад Лялька записала ему свой адрес-телефон.
Трижды дернула наманикюренным пальчиком нежно зажужжавший телефонный диск, подождала ответа и вдруг в развеселый, совсем девчоночий разговор бойко ударилась: «Веруся? Ну, здравствуй, Веруся! И куда же это вы, голубки, тогда исчезли, интересуюсь знать??» (Несколько обидела, надо сказать, Чашкина этим разговором…)
Слушала, что говорит, оправдываясь, какая-то неведомая Чашкину Веруся, а сама в это время с откуда-то взявшейся чиновничьей сноровкой вынимала из ящиков, раскладывала по столу пухлые пачки исписанных бумаг, в стопку устраивала уныло раззявые папки-скоросшиватели. Клочки, листочки, обрывочки, попадавшиеся под руку, мельком прочитывала и с решительным облегчением, сжамкав в ладони, швыряла, не глядя, в корзинку под столом. Успевала при этом еще и покашиваться озабоченно-нежно на свое отражение в зеркальце, прислоненном к письменному прибору, и не забывала между всеми этими делами то и дело успокаивающе показывать глазами Чашкину: «Не волнуйся, дядя Ваня, я маленько еще послушаю, а потом прерву-поверну разговор. От этого дело только быстрее сделается…»
Чашкин ждал, впрочем, уже вполне доверчиво.
С благодушной отрадой — то как мужик на бабу, то как дед на внучку — глядел на Любку, этак оживленно, как синичка на кусте, живущую, зябко-весело взбудораженную свеженькой, крепенькой юностью (а главное, непобедимой верой в нескончаемость этой юности) — глядел и в который раз поражался этому чуду чудному и чудно′му: не позавчера ли вот эта самая Любка, вцепившись в мамкин палец, от земли разглядывала дядю Ваню с полувраждебным хмуреньким любопытством, покуда посреди улицы он разговаривал с ее матерью, бывшей соседкой по переулку? Было это, дай бог памяти, лет тринадцать назад, декабрь месяц был, и он даже помнит, о чем они говорили тогда — о том, как часто болеют дети в детском саду.
Глаз отдыхал глядеть на нынешнюю Любку. Удивительно и весело было глядеть. Но и горчащее, неотчетливое раздражение чувствовал Чашкин, разглядывая сегодняшнюю Любку.
Эти вчерашние соплюшки, которые без устали, волна за волной, преображались в этаких вот греховно-прельстительных, вовсю уже приспособленных для рожалого дела молодок, — они не просто свидетельствовали Чашкину, что Время идет, что Время проходит. Они свидетельствовали еще и об ошеломляющей, бесцеремонной к Чашкину несправедливости этого идущего Времени: годы, которые к ним, вот к этим девчонкам, плюсовались, эти же годы из его, чашкинской, жизни уже вычитались!
Непостижимо это было. Жутковато было.
Но не одним этим печально раздражалась душа.
Все чаще ранясь в последние годы знаками, как бы сказать, повелительности Времени, — глядя, как вот сейчас, на повзрослевшую Любку, а затем отмечая, как любки вот эти превращаются в женщин и как женщины эти начинают потом грубеть, матереть, дурнеть, словно бы спешно устремляясь по уклону, поневоле принимая все более частое участие в свадьбах, крестинах и похоронах (причем хороня уже и тех, кого он числил в сверстниках) — все чаще, одним словом, замечая течение Жизни и все чаще поворачиваясь с вопросительным недоумением в ту сторону, куда течет эта жизнь, — Чашкин все чаще и потрясеннее ловил себя на одной и той же догадке, от которой сразу же нехорошо, растерянно и угрюмо становилось на душе: «А ведь нет в этом плавном, обстоятельном, величавом течении никакого смысла! Нет! Проста жизнь человечья. Незатейлива. Бессмысленна. Печальна…»
Едва недобрые эти догадки посещали — все существо Чашкина начинало тихо стервенеть, несогласное, восставать против этой нагло-великой Неправды!
Он ведь знал — как и всякий сущий на Земле, — что это не так! Каждой горячо живущей клеточкой своей плоти, каждым нервно дрожащим волоконцем он знал, он слышал, он верил: «Это не так!» Не может быть так. Не должно быть так!
Самое удивительное, что и этому знанию, и этой вере нисколько не мешало, что весь сумеречный, монотонный уклад его собственной жизни говорит совершенно другое. И то, как живут окружающие его люди — невесело, смутно, словно бы оглушенно живут, — говорит совершенно другое. Да и само окружение, в котором утекают его годы, — вот этот поселок, заброшенно-невеселый, грустно обшарпанный непогодами, дрянно застроенный врастающими в грязь домишками и двухэтажными, хило кривящимися сизыми бараками (смурными памятниками так и не начавшейся здесь послевоенной великой стройки), а также шестью скверно-серыми, наводящими тоску на сердце бетонными пятиэтажками — гордостью поселковых властей, именуемой на городской манер «микрорайоном», — и сам этот поселок, и вся жизнь, угнездившаяся здесь, полная неудобств, нехваток, бестолочи и ощущения упорно гнетущей стесненности, — все окружение это тоже ведь о другом твердило: «Да, проста! Да, бессмысленна! Да, незатейлива! Да, печальна здесь жизнь человечья…»