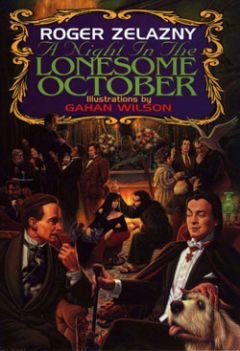«Я сам».
Он еще не может знать, что судьба бросила ему спасательный круг, что с этого момента жизнь его обретает новый смысл, что наследство прежней жизни очистится от временного, в долгих мучительных трудах получит стройность, ясность и завершенность, что завтра он будет слышать то, чего раньше не слышал, замечать то, на что раньше не обращал внимания, чувствовать и думать так, как если бы вдруг переродился в способного обнажать душу. Он переворачивает страницу и продолжает:
«Тема
Я — поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу. Люблю ли я, или я азартный, о красоте кавказской природы также — только если это отстоялось словом».
Десятки раз читанные до этого строчки вдруг ошарашили его. Он вскакивает и ходит по комнате — четыре шага от стола до стены, четыре к столу. На ходу прикуривает от пятой спички, сломав четыре. Потом будто вспоминает что-то, бросается к раскрытой книге и, уже не отрываясь, прочитывает автобиографию великого человека до конца. Еще раз с начала и еще раз…
В чеканных рубленых фразах поэта пульсировала жизнь — то, что «отстоялось словом». Можно было остановиться на любой фразе, опереться на нее и увидеть невидимое во всех красках, в мельчайших деталях и услышать голос поэта — голос гения в бурлящем многоголосье громадной страны, рождающейся заново. Это потрясало, околдовывало. Захотелось любым, пусть самым невероятным способом, пусть с помощью дьявольщины переместиться из этой жизни в ту жизнь, и вдруг…
Вдруг он вспомнил эпизод из собственной заурядной биографии. Эпизод так себе — пустячок, о том, как в реформу 1947 года вместо полужестких креплений за тридцать два рубля ему продали жестяную судейскую сирену за три рубля двадцать копеек. Вспомнил и улыбнулся… И как только улыбнулся, воспоминания захлестнули его…
Он долго сидит, обхватив голову руками, уставившись в прожженное утюгом на столе черное пятно, напоминающее снаряд, затем встает, плетется к диван-кровати. Внутри ее под матрацем всегда лежала бумага. Громов берет пачку, уже твердым шагом возвращается к столу, выхватывает белый лист и пододвигает его к себе.
Профессия приучила его писать. В науке, которой он служил, было мало формул, а раз их мало, то для того, чтобы отразить сложные явления, а их в геологии хоть отбавляй, нужно затратить много слов. Писать… Писать… Писать…
Он умел писать присев на подвернутую под себя ногу и положив блокнот на колено, стоя, согнувшись дугой и загораживая блокнот от ветра с дождем, лежа в спальнике при свече и за походным жиденьким столом при керосиновой лампе. Он умел набрасывать слова карандашом, елозящим в скрюченных от холода пальцах. Он научился искусству емкого письма, и ему часто удавалось в короткий текст втиснуть довольно много информации. Его дело требовало прежде всего логики, и он старался писать логично. Нужны были факты — и он научился определять настоящую цену тому или иному факту. Все это так. Но то, что он думает писать сейчас, абсолютно непохоже на все его многочисленные главы в отчетах, с трафаретным набором фраз, с узаконенным соподчинением одной мысли другой, со строгим, без эмоций, изложением. Сейчас нужны чувства. Он разучился доверять их бумаге, даже его письма огорчали родных сухостью, и поэтому уже несколько страниц валяются под столом. Где-то в час ночи он понял, что ничего не получится.
Он ложится спать не раздеваясь, не выключая лампу, и только закрывает глаза, как фразы одна лучше другой добровольцами выходят из серой шеренги однообразных слов.
Он вскакивает, начинает записывать фразы, но на бумаге они лишаются самоотверженности, они уже не кажутся ему той блестящей гвардией, которая представилась в мыслях. Ему становится скучно, противно, во рту появляется привкус меди, он бросается в постель и, поворочавшись, забывается в неустойчивом сне.
Около шести утра Громов снова сидит за столом и беспомощно смотрит на чистый лист.
Он в который раз листает первый том Маяковского, как будто именно здесь хочет найти талисман, который выручил бы его, направил бы бесформенный рой фактов (да, только фактов! — того, что было) в единственно верное русло, которое придало бы им законченность, чтобы любой человек, прочитав его записи, смог бы видеть именно то, что знал и чувствовал он, а если и нет, то хотя бы снизошел к его чувствам и не опошлил их.
Как это назвать, что случилось с ним тем утром? Просветлением? Озарением? Он вздрогнул, когда ЭТО пришло к нему. Еще были сомнения, еще он думал, что кощунствует. Но рука уже твердо и крупно выводит печатными буквами в левой половине листа: «Тема», а ниже с красной строки размашистой прописью: «Я — человек. Этим и интересен. Об этом и пишу. Пишу то, что отстоялось в памяти».
Да-да-да-да! Да, он так решил! Так!.. И, подчинившись жесткой конструкции автобиографии родного ему поэта и ее заразительному синкопическому ритму, Громов начинает писать первые свои записки, назвав их: «ТО, ЧТО ОТСТОЯЛОСЬ В ПАМЯТИ».
Тема
Я — человек. Этим и интересен. Об этом и пишу. Пишу то, что отстоялось в памяти. Другое — почему я себя человеком считаю.
Память
Фамилия — Громов: очевидно, когда-то, кого-то из предков моих убило молнией. А думали, что громом. Знаю свою родословную только до дедок и бабок. Громов-дед умер от горячки, когда отцу было полгода. Оба деда пахали землю: один — на Брянщине, другой — в Новгородской губернии.
Вот таким было начало. Не стоило, наверное, так бесхитростно, так открыто подражать. А в «Теме» так почти слово в слово. Только и разницы — один пишет: «Я — поэт», другой — «Я — человек»; один бьет на отстоявшееся словом, другой — на отстоявшееся в памяти. Подражать нехорошо. Подражать предосудительно. Только живопись да скульптура признают копиистов как мастеров своего дела. А в других искусствах подражать — это плагиат. Плагиат! «В духе», «в стиле» — это еще куда ни шло. Даже Пушкин, даже Лермонтов другой раз писали в духе и стиле кого-то.
Но взгляните: одна ли жизненная позиция двух пишущих? «Я — поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу», «Я — человек. Этим и интересен. Об этом и пишу».
Слова чуть-чуть отличаются, а разница огромная! Слова только чуть-чуть отличаются, а интонация иная, настроение, смысл другой. Да, это и есть русский язык. Это по-русски! Может быть, повременим уничтожать молодого автора? Не будем выдавать ему «белый билет»? Посмотрим, как дальше дело пойдет?
Громов начал набрасывать свои записки, помнится, в четверг утром. Писал он весь день. В пятницу у него тоже была возможность писать, так как отгулы его за полевой сезон, а их было пять дней, не кончились — на работу он должен был выйти с понедельника. Писал он и в субботу, и в воскресенье. Пачка бумаги на двести пятьдесят листов быстро таяла оттого, что каждую вымаранную страницу он старался переписать начисто и, переписывая, снова превращал ее в трудночитаемый черновик. Но ему такое дело нравилось. Он вошел во вкус этой изматывающей, бесконечной и порочно сладкой работы.
В воскресенье вечером он решил, что завтра подаст рапорт начальнику экспедиции и попросит неделю отпуска в счет очередного, мотивируя его всеми правдами и неправдами. Он чувствовал: нельзя ему прерываться, нельзя упускать найденное, нельзя не окончить начатое. Иначе…
Иначе не могло быть.
Отпуск ему дали. Хотя с видимым неудовольствием, но дали. Лев Петрович решил, наверное, что Громов хочет отгулять «на всю катушку» перед тяжелыми временами. И никому на ум не пришло, даже близким друзьям-приятелям, что Паша Громов тот, да не тот, что и уходит он в глубокое подполье (так он всем объявил, чтобы не трогали) не по причине душевной депрессии (так о нем многие думали), а как раз наоборот.
И вот в следующий четверг, уже во втором часу ночи, он окончил свои записки, поставил жирную точку, но через минуту приписал вот это:
«Самый-самый конец
В отделе кадров Северо-Восточного геологического управления мне дали направление в Восточную комплексную экспедицию. Я не возражал».
— Я не возражал! — громко повторил Громов, вставая. Он широко и блаженно потянулся, сделал глубокий вздох, потом разом выдохнул и, скрючившись завис над последним листом.
Может быть, еще прибавить что-нибудь эдакое, легонькое, с «клюквочкой»? А то больно уж протокольно: «Я не возражал». Да кто ты такой, чтобы возражать? Салага, неудачник, отщепенец, уголовник, жена бросила»… Все это повторял про себя Громов с каким-то внутренним ликованием, необъяснимым, чистым, раскрепощенным, без оглядки на прошлое, без слез о настоящем и с верой, большой и прекрасной, в будущее.
Простим ему, двадцатидевятилетнему мужчине, юношеский порыв, детский восторг перед собственным творением или лучше позавидуем. Он еще долго не успокоится. Он еще будет стоять на улице под ветром в своем белом с серыми оленями свитере и смотреть в небо. И к нему придут такие вот слова: «Ветер и звезды. Звезды большие и голубые, как кристаллы аквамарина. Светят они пронзительно. Смотреть на них больно. Но не смотреть никак нельзя».