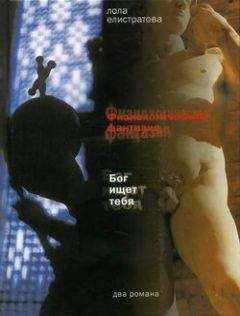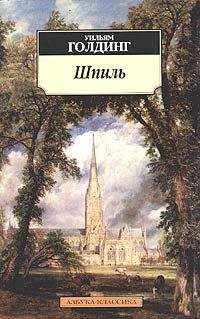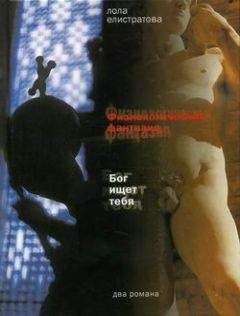– Лиза Кораблева, – сказал он вдруг, словно в завершение какого-то логического умозаключения. – Ко-раб-лева.
– Я же говорила вам, что это фамилия мужа, – объяснила она неохотно.
– Я понимаю, что это фамилия мужа.
– И что?
Он не ответил.
Она пожала плечами и опять пошла вперед по пустынной набережной Мойки. Она его не понимала, – хотя, впрочем, пыталась ли понять? Нет, надо сознаться, что она не делала в этом направлении ни малейшего усилия. Просто – плыла в тумане ранней весны, глядя, как непривычный бокал вина разукрашивает петербургский неоклассицизм орхидеями и павлинами северного модерна.
Дима остановился у Поцелуева моста.
Ему бы подойти к девушке и поцеловать ее в губы, как это делают сотни влюбленных на этом месте. Говорят, приносит счастье. Но нет, он не стал ее целовать, а облокотился о парапет набережной. Лиза тоже остановилась – чуть-чуть поодаль. Напротив них, через узкую Мойку, высилась темная масса Новой Голландии.
– Чего вы хотите, Лиза? – спросил он.
– Я? Ничего.
– Ну что ж, не хотите говорить, не надо…
– Да мне, право, нечего сказать.
Темная вода Мойки с безнадежной целеустремленностью заливалась в ворота, раскрытые над каналом Новой Голландии. Какой она выйдет потом, миновав треугольник острова? Сохранится ли память об этом узком проходе, когда сольется с Невой и помчится вдоль Английской набережной – к Исаакиевской площади, туда, где печальная гостиница «Англетер», и Сенат, и Синод, и Медный всадник, имя которому – Смерть, и ад, и мор, и власть над четвертой частью земли, и звери земные окружают его?
Час был поздний. Становилось все холоднее.
– Вернемся? – предложил Дима.
Вот и все: ностальгическая прогулка окончена. Ускорив шаг, они пошли вперед и, не заметив, миновали то место перед Юсуповским дворцом, где когда-то безжалостной восьмеркой отпечаталась на земле кровь раненого Рвспутина, выбегавшего из боковой двери. Они прошагали по нему, не думая, оставив четкие следы на снегу.
Но колебания бликов в полутьме еще окутывали Лизу, плыли и оседали, как туман. Сдвиг, произошедший в городе, по-прежнему чувствовался во всем вокруг. На минуту она даже перестала понимать, где находится: вывеска «Тульское оружие» на другом берегу Мойки вдруг показалась ей написанной на немецком языке, а серый классический особнячок с круглыми колоннами превратился в берлинский Арсенал, Нойе Вахе.
– Нет, нет, – оттолкнула от себя видение Лиза. Цвет стен был слишком серым, пропорции – слишком правильными, от них веяло зимой, ледяной коркой, Берлином, а в Берлине она была с Андреем, о котором больше не хотела вспоминать.
Андрей остался там, в зиме, а с тех пор мир непоправимо сдвинулся, по невскому льду пролегли извилистые трещины, и воды Мойки потекли внутрь странного треугольника Новой Голландии, похожей на темный элегический Остров Мертвых. Ни Берлина, ни Андрея больше не было – только мерцающий в полуночи Петербург и молчаливый незнакомец, идущий рядом по Синему мосту.
В гостинице он проводил ее до номера. У самой двери она подняла на него глаза.
Напряженная маска его лица.
Внезапное ощущение, что она может все, – прямоугольники стен заструились певучими овалами.
Он наклонился.
Сердце учащенно забилось у Лизы в груди.
Он осторожно поцеловал ее в обе щеки – в одну, потом в другую:
– Спокойной ночи, Лиза.
Слегка коснулся рукой ее волос. Опустил руку, быстро развернулся и пошел прочь, а она стояла в коридоре и смотрела, как все выше он шел и как дрожали ступени под ногой у него.
***
Мелизанда наклоняется из окна башни.
Пеллеас. О, Мелизанда! Какая ты красивая… Ты так красива – наклонись. Наклонись еще!.. Я хочу быть ближе к тебе…
Мелизанда. Я не смогу быть ближе… Я наклоняюсь, насколько могу…
Пеллеас. Дай мне хотя бы твою руку сегодня… пока я не уехал… Я уезжаю завтра.
Мелизанда. Нет, нет, нет…
Пеллеас. Да, да; я уезжаю, я уеду завтра… Дай мне руку, твою руку, твою маленькую ручку к моим губам…
Мелизанда. Вот, на… Но я не могу нагнуться еще ниже…
П е л л е а с. Моим губам не достать твоей руки… Мелизанда. Я не могу нагнуться ниже… Я сейчас упаду… Ой! Мои волосы падают с башни!
Длинные волосы Мелизанды низвергаются из окна и затопляют Пеллеаса.
П е л л е а с. Ах, что это? Волосы, твои волосы падают на меня! Все твои локоны, Мелизанда, твои локоны спустились ко мне с башни! Я держу их в руках, я трогаю их губами… я обнимаю их, они обвивают мне шею… я не разожму рук сегодня ночью…
Мелизанда. Оставь меня! отпусти!.. Из-за тебя я сейчас упаду!
П е л л е а с. Нет, нет, нет… я никогда не видел таких волос, как у тебя, Мелизанда! Смотри, смотри, они падают с такой высоты и затопляют меня до самого сердца… Они такие теплые и мягкие, словно падают с неба!.. Я больше не вижу неба за твоими волосами, их прекрасный свет затмевает свет небесный. Ты видишь, видишь, мои руки больше не могут их удержать. Твои волосы убегают от меня, рассыпаются повсюду… Они вздрагивают, колышется, они трепещут в моих руках, как золотые птички; и они любят меня, любят в тысячу раз больше, чем ты.
Мелизанда. Оставь меня, отпусти, сюда могут прийти…
Вернувшись в номер, Лиза сделала то, что делала каждый вечер по возвращении в гостиницу: пошла к окну и села с ногами на подоконник, обхватив колени руками.
Она сидела тихо, неподвижно, опутанная длинными светлыми волосами, и смотрела в окно. Тонкие руки непроизвольно выкручивались, сжимали худые коленки; зимняя печаль опять возвращалась в сердце. Так ненадолго город сдвинулся, ожил, заструился, и вот опять – все та же холодная, привычная сцена: горестная фигурка, скрючившаяся на подоконнике, и там, за стеклами, – грозный незыблемый Исаакий в свете ночных прожекторов. А свет такой странный, мертвенный, что розовый мрамор на стенах собора, нежнейший под утренним солнцем, кажется жестким и серым, да и потом, ангелы… Да, хуже всего темные ангелы, плотным кольцом стоящие над куполом: от них исходит что-то тяжелое и мрачное, и слезы наворачиваются на глаза.
Слезы подступали к горлу, и застилали взгляд, и казалось: Исаакий тоже колышется, ангелы шевелятся, разрывают круг, но Лиза знала: это только обман, радужная влажная оболочка, мерцание неверных теней. Знала, что собор устойчив и неподвижен, и не верила в ангела, отделяющегося от купола и летящего к ее окну.
Она всхлипнула и прикрыла глаза, утирая слезы тыльной стороной руки, и за это время ангел влетел в грустную гостиницу «Англетер», беспрепятственно пройдя через двойные стекла, бросился об пол и обернулся полыхающе-алой Жар-птицей.
Минуту в изумлении Лиза глядела на нее с подоконника, а потом живо спрыгнула на пол и кинулась ее ловить. Еще вчера она, наверное, и не пошевелилась бы, равнодушно созерцая со своего ночного поста великолепное видение, но сегодня, раз уж мир сдвинулся…
А Жар-птица порхала по комнате, яркая, изысканная, пугливая, водила по сторонам огромными глазами, не давалась в руки. Лиза без толку бегала за ней из угла в угол: запыхалась, разрумянилась.
Выбилась из сил и упала на постель.
Жар-птица замерла напротив нее, как фигурка из причудливой восточной сказки: яркие краски, плоскостной рисунок.
– Я пришла сказать тебе, – молвила Жар-птица, и ее перья полыхнули на Лизу тысячью синих глаз. – Бог ищет тебя.
Красивая фраза, звучная и полновесная, как названия таитянских полотен Гогена. И такая же непонятная.
– Что это значит? – спросила девушка.
– Ты должна жить, – отвечала блистательная гостья. – Не сидеть на окне, глядя на ангелов, не плакать, а жить. Ты пустая, холодная оболочка. Ты не пульсируешь, тебя не видно с неба. Энергия не поднимается от тебя вверх, и Бог ищет тебя.
Жар-птица опустилась в кресло и стала похожей на человека: черные волосы, подведенные тушью глаза, мониста и звонкая серебряная бахрома.
– Когда-то я тоже была женщиной, – сказала она. – Женщиной в стиле модерн. Я танцевала, меня звали Мата Хари. Это значит «глаз рассвета». Я – жила. Я танцевала и любила, это было сладко. Я бы и сейчас жила. Хочешь, отдай мне свое тело, я буду жить вместо тебя.
– Нет, – ответила Лиза торопливо, – я буду жить сама.
– Ха-ха-ха, – засмеялась Жар-птица, и мелко затряслись огненные перья, пустив по комнате струю красных искр. – Ты не сможешь жить так, как ты живешь. Твоя личность обособлена от других людей. Оторвана от живого Бога.
– А я стану как ты, – прошептала Лиза.
– Ты? Ты другая. Я темная, ты светлая. Я теплая, ты холодная. Как ты сможешь стать такой, как я?
– Ты научишь меня, – с неожиданной уверенностью сказала Лиза. – Ты научишь меня быть красивой.
– Но ты и так красива. Ты светла и пуста, как серебряное изваяние.
– Ты научишь меня танцевать, – упорствовала Лиза. – Ты расскажешь мне о себе.