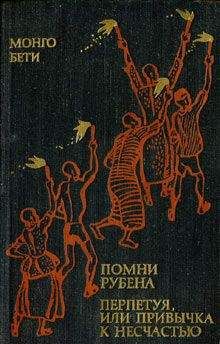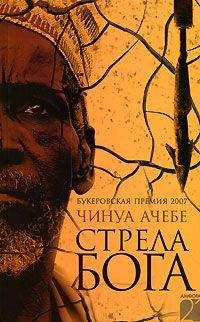Эта дипломатия подкреплялась рядом хорошо продуманных полицейских и политических мер. Все те, кто был известен своим участием в антиколониальной борьбе, подвергались преследованиям: их увольняли с работы, ссылали, заключали в тюрьмы. Одновременно с этим создавалась политическая организация, которая должна была подменить подлинно демократическое движение и заглушить любое проявление свободной мысли.
Годы молчания были временем раздумий, временем наблюдений, и Монго Беги довольно скоро убедился в правильности своих прогнозов: африканцы начали угнетать африканцев. С возмущением пишет романист о тех, кто, по его мнению, несет особую ответственность за трагедию неоколониализма. Вместе с большой частью африканской интеллигенции он видит в Шарле де Голле отца «контролируемой независимости». Писатель не скрывает и своих взглядов по поводу слишком терпимой позиции Организации африканского единства по отношению к неоколониалистским режимам. Эта его оценка — опять-таки выражение мыслей довольно широких кругов общественности континента.
Роман «Перпетуя, или Привычка к несчастью» продолжает предыдущую книгу писателя. Это остросатирическое произведение показывает, к чему привело поражение национально-освободительного движения в канун провозглашения независимости.
Монго Бети, который всегда был противником архаичных традиций, в новом своем романе показывает, как неоколониалистские порядки практически срастаются с архаикой. Взгляд писателя на историю Африки последнего десятилетия не затуманен ни преклонением перед прошлым, ни страхом увидеть правду завтрашнего дня. Напротив, он сам настойчиво ищет эту правду, как ни мучительна бывает она временами. Трезвая оценка внутриполитической ситуации была свойственна Монго Бети и прежде, но теперь она углубляется критическим осмыслением африканской действительности, характерным для многих крупных писателей континента.
Правда, которую обнажает Монго Бети, бывает поистине страшна: мать, согласно старинному деревенскому обычаю, продающая дочь, жалкий чиновник, который превращается в тирана целого района, отступник, совершающий дикое убийство в надежде заглушить в себе голос совести, популярный футболист, которого расстреливают, потому что язык его слишком дерзок, — трагической чередой проходят эти образы перед читателем. И хотя отдельные сцены и некоторые характеры написаны неровно, но общий тон произведения уверенно выдержан в едином ключе. Роман Монго Бети — взволнованный обвинительный акт неоколониализму.
В начале апреля этого года, будучи в Париже, я встретился с писателем на террасе небольшого кафе рядом с Сорбонной. Разговор коснулся его последнего романа. Правда ли, спросил я Монго Бети, что его героиня символизирует образ Африки, а ее судьба — испытания, выпавшие на долю африканских народов?
— Читатель вправе вкладывать свой смысл в образы, созданные писательским воображением, — ответил он. — Но в моих глазах жизнь Перпетуи — это трагедия африканской женщины, испытывающей двойной гнет — архаики и неоколониализма.
— Каковы ваши творческие замыслы?
— Я намерен создать цикл романов о Рубене, этом истинном герое независимой Африки. Мой второй роман о нем практически закончен.
В произведениях Монго Бети много горьких страниц, как много их в жизни народа, о котором рассказывает камерунский писатель. И все-таки никогда внутренняя боль не перерастает у него в отчаяние. Свой талант Монго Бети отдает будущему родины, будущему народа.
Вл. Иорданский
REMEMBER RUBEN Paris 1974
Всякое сходство с подлинными событиями, реальными людьми и определенными странами является чисто случайным; к нему следует относиться не иначе как к досадному недоразумению.
Перевод Ю. Стефанова
Редактор Е. Бабун
Диопу Блондену, гордому чернокожему юноше, моему младшему брату, замученному в мрачных застенках одного из африканских царьков. О мачеха-Африка, сколько гнусных тиранов ты породила!
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Все для женщины, ничего для винтовки
Мало сказать, что Мор-Замба ничуть не был повинен в том, что так долго вызывало наше раздражение. По правде говоря, Мор-Замба ни о чем нас не просил; Мор-Замба шел своей дорогой.
Одно время, вскоре после исчезновения Абены, мы пытались избавиться от угрызений совести, загнав правду обо всем происшедшем в самый темный уголок памяти. Брань, которой мы осыпали Мор-Замбу, облегчала нам душу. Первым заводил речь покойный Ангамба, с пеной у рта обличая чудовищную неблагодарность, которой запятнал себя наш гость, и превознося наше великодушие, достойное войти в легенду. Потом, один за другим, говорили все мы, и каждый старался припомнить, сколько добра сделали мы Мор-Замбе, какими честными были наши намерения и каким искренним желание действовать со всей справедливостью, сколь восхитительным было наше врожденное чувство щедрого гостеприимства. Мы наперебой выдумывали все новые и новые упреки, один изощреннее другого, стремясь подстегнуть ослабевшее чувство ненависти и гнева.
Теперь, оглядываясь на прошлое, с каким возмущением вспоминаем мы злонамеренность лукавых речей Ангамбы, особенно когда он перед самой своей кончиной, в тщетной попытке оправдаться противопоставлял Мор-Замбу, вечно держащегося особняком, лишенного братских чувств, Ван ден Риттеру, образцовому, по его словам, пришельцу, который, честно испросив себе место в общине, занимает его с признательностью и скромностью. Как ни верти, говорил Ангамба, но проситель — он и есть проситель. А разве Мор-Замба не оказался в роли просителя, когда сошел с проезжей дороги и ступил на обочину, пересек границу между двумя совершенно различными, если не враждебными мирами: широкой лентой шоссе и нашими землями. А, взобравшись на откос, разве не принялся он рвать апельсины, бросая тем самым вызов нашему гостеприимству? Какой из народов Эсазама стерпел бы подобное оскорбление? Ангамба говорил все это таким тоном, будто обычаи нашего народа не позволяли любому путнику, томимому голодом или жаждой, сорвать плод, растущий на обочине, срезать стебель сахарного тростника, а то и поживиться кукурузным початком, чтобы испечь его на очаге в ближайшем же доме, и снова пуститься в путь, не вызвав бурного любопытства толпы, и добро бы еще возникшего стихийно, без подстрекательства! Но в тот раз Ангамба, человек пожилой и выдающий себя за мудреца, распалив нескромный интерес женщин и взбудоражив ребятишек, затеял всю эту свару, породившую столько неурядиц.
Пора признать, что мы сами вынудили это бездомное дитя прибегнуть к нашему гостеприимству, сами заставили его сначала остановиться, потом пожить, а в конце концов и обосноваться у нас.
Нет спору, юный путешественник попался у апельсинового дерева, выросшего на землях общины; однако по неписаным законам такое дерево считалось собственностью не столько владельцев земли, сколько прохожих, которые в случае необходимости могли пользоваться его плодами так же свободно, как речной водой, тенистой лесной прохладой и прочими благами, что дарует нам провидение. Никто, насколько помнится, не сажал этого дерева; никто не заявлял на него никаких прав.
Конечно, согласно нашим обычаям, завтракать в такую рань не годилось, и потому никто из нас не стал бы безучастно наблюдать за мужчиной, подростком или даже ребенком, который при первых проблесках зари уписывает апельсины, прохладные и влажные после дождливой ночи.
Вот Ангамба и заковылял к шоссе, неловко волоча ногу, и принялся отчитывать мальчика, словно неразумную скотинку, сбежавшую из загона.
— Дитя мое, да время ли сейчас набивать живот апельсинами? Ты только застудишь себе желудок холодным соком, а сытости никакой не почувствуешь. В этот час, дитя мое, ни один плод человеку не впрок; животные и те еще воздерживаются от еды, ожидая первых лучей солнца, чтобы пуститься на поиски пищи. Кто бы ты ни был, юный чужестранец, посмотри-ка на меня: я ведь тоже только что поднялся, но у меня еще и крошки во рту не было. Я тоже проголодался, и желудок мой урчит, настоятельно требуя положенной дани. И однако, стану ли я из-за этого с утра пораньше набрасываться на апельсины? Нет, я спокойно подожду, пока моя супруга растопит очаг и подогреет похлебку, которая вольется в мою разверстую глотку и поддержит жизнь в этой оцепенелой старой развалине. Кто бы ты ни был, чужестранец, напрасно ты не вошел с открытой душой в наш поселок, не попросил пищи у первой попавшейся тебе на глаза матери семейства, одной из тех несравненных матерей, которыми гордится весь народ эсазамский, ибо доброта породила у них обыкновение утолять голод и жажду всех пришельцев, будь то люди или животные, не заботясь ни о чем, кроме поддержания добродетелей, завещанных нам предками. Да кто же ты такой, если молва о щедрости нашей общины не достигла твоих ушей? Неужели тебе невдомек, что жевать апельсины у врат нашего города в сыром рассветном тумане — значит наносить нам обиду, которую мы не забудем вовеки? Твое счастье, юный путник, что обида, причиненная не зломыслием, а неведением, заслуживает не гнева, а участия.