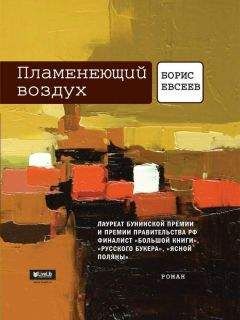А старая мельница-толчея — та стояла бездвижно. Рыкуша ловко обминала спущенное вниз, пообломанное временем мельничное крыло…
Вдруг на старой мельнице раздался срежет, заполошно взлетели вверх — как из костра, который спешно гасят, — три-четыре искорки.
Приезжий двинул на искры. Но никакого входа на мельницу не нашел. Сколько ни плутал во тьме — ничего.
Внезапно выше неработающего, висящего над самой речкой крыла мелькнула полоска света, рыпнула дверь. На короткое время осветился избура-желтый прямоугольник пространства, затем блеснуло серебром, и кто-то, ругнувшись, полновесно выплеснул в реку содержимое цинкового ведра. Тут же дверь захлопнулась. Чуть погодя лопасти старой мельницы дрогнули, заурчал далекий, словно спрятанный в глубинах земли, мотор…
Нужно было спешить!
Не разбирая дороги, кинулся приезжий москвич к хлопнувшей двери. По дороге он два раза упал, измазав лицо и руки в осенней холодноватой грязи. Это не остановило.
«Если Рыжий написал правду… Надо воспользоваться! Если они не только эфир ловят, но и молодильными делами занялись — тут нельзя пропустить…»
В последние недели вопрос о старости и молодости взволновал приезжего не на шутку. Чувствуя себя в сорок лет вполне здоровым и крепким, он вдруг засомневался в прочности не сегодняшней, а вот именно завтрашней жизни.
«Мне теперь сорок, Ниточке — двадцать три. Вдруг через год-другой она кого помоложе затребует?..»
Так бормоча, москвич потянул ручку двери на себя. Та поддалась. Входя, он споткнулся обо что-то мягкое и снова упал.
Первое, что увидел приезжий, поднявшись, так это собственную перепачканную грязью мордашку и вздыбленные на макушке волосы.
Правда, три громадных зеркала, установленные на полу буквой «H», — два зеркала параллельных и зеркальная перегородка меж ними — отразили не только черную мордочку, но и дерзкий вызов на ней.
Отражение — приободрило. Да и бояться приезжему, собственно, было нечего. А вот невысокий, в цветной кацавейке и подштанниках голубоватых мужичок с бороденкой — тот перепугался до смерти.
— Ты зачем это? — крикнул мужичонка. — Лицо, спрашиваю, зачем изукрасил? Думаешь, и так бы не догадался, кто ты?
— Я тут… В «Ромэфире» я числюсь…
— Брось заливать! Да я тебе! Гляди какой! И сюда пролез… Но ты пойми, тупило: я не Фауст! Я не по этому делу. Мне что Гретхен, что мальчики без надобности. В эфирных полях какой смысл за детскими попками и юбками волочиться? Золото тоже мне ни к чему. А… Понял! Ты за молодилкой пришел… Но тебе ее не взять… Хрен ты получишь, а не молодилку! А ну вали отсюда к своим глюкам подлючим!
Приезжий москвич вынул платок и старательно вытер им лицо. Потом сделав несколько шагов вперед, осмотрел себя в зеркале подробней. Лицо оттерлось, но по краям щек и за ушами и после вытирания оставалось неестественно белым. Белыми оказались также плечи и рукава плаща.
— Это мука, простофиля! Нет, ты, наверно, не бес… А физия и плечи белые — потому что мука тут уже лет сто кружится. Сыплется отовсюду! Никак не выведем… Мельницу эту когда-то как крупорушку строили. Мельница-толчея она называлась. Но потом стали муку молоть. Голод и все такое, — уже спокойней проговорил мужичонка и кинулся вприпрыжку за брюками.
Вернулся он уже в брюках и кацавейку цветную застегнул на все пуговицы, но подозрений полностью не оставил.
— Так ты точно не из трубы? — спросил он и ловко намотал на палец кончик длинной и узкой, кощеевой бороды.
— Говорю ж… Взяли на работу, а работы и нет.
— Кто взял-то?
— Трифон Петрович.
— А кто у них там сейчас еще работает?
— Директор Коля.
— Юный оболтус с чистыми глазками. Еще?
— Пенкрат Олег Антонович.
— Даже комментировать не стану. Еще!
— Женчик-птенчик.
— Она все еще здесь?
— Бодрее Женчика у нас нету. Но и вредноватая она…
— Ну это я не знаю. Она, если хочешь… Ну, в общем, про нее потом. Столбов — работает?
— Вроде да. Но я его не видел, чем-то он занят сильно.
— В Столбове и в Трифоне вся сила. Ладно, я вижу: ты не из трубы и не подослали тебя. Садись, поболтаем. Меня зовут Порошков.
— А меня «приезжий».
— Неужто даже имени нету?
— Есть. Тима я.
— А чего сюда, Тима-Тимофей, прибыл?
— Овец живописать…
— Овечек, овцематок! — Порошков захохотал так, что где-то вдали замяукала кошка. — Кошка здесь просто необходима, — вдруг посерьезнел Порошков, — она всю дрянь на мельнице распугала и ужей вывела. Только вот корм для кошки Трифон редко привозит. И сам редко приезжать стал. Чует мое сердце, закрыть он мельницу хочет. А зря! У нас, брат Тима, тут такие научные открытия вдруг замерцали. Москва — сдохнет! Америка вместе со своими Скалистыми горами и гористыми скалами — в океан рухнет. А мы…
— Сидели мы у речки у Рыкушки! Сидели мы в двенадцатом часу!.. Золото мелете? — бешено крикнула вставшая в дверях Леля, — или у вас тут похуже дела творятся? От гражданского общества опыты прячете? Ты, Порошков, вместе с Трифоном скоро доиграешься.
— Трифон ни при чем. Трифон — ребенок. Почти святой. Как это?.. Чудодей, чудотворец… Не в курсе он. Ему эфиром тешиться — не натешиться. А я ломовая лошадь. И я, Леля, Трифона давно обскакал.
— Ну и дурак. Зачем скакать дальше Трифона? Он и так далеко заехал. Вас обоих в дурдом определить надо. В отделение интенсивной медикаментозной терапии.
— Опять явилась меня испытывать? — крикнул Порошков. — А ну марш отсюда!
— Ты негодяй, Порошков, — сказала Леля, — и скоро все твои художества выплывут наружу. Я тут полицейскую машину неподалеку видела.
— Ох, мать, не пугай, — мы здесь чертями мельничными пуганные, ветерками эфирными притравленные… Но даже их не шибко испугались. — Порошков подмигнул приезжему.
Вдруг потянуло холодом. Потом — сильней, сильней.
— Чего съежились? — крикнул Порошков. — Я вам сейчас кровь морозцем очищу. Заодно мозги охолонут. Ты думала, мы золото тут перемалываем, наркоту трем? Дура ты, Лелища. Золото на мельницах только в сказках мелют. А наркота — не наш уровень. Иди, чего покажу…
Порошков зашел за зеркало. Леля осталась у стола, потом села, закинула ногу на ногу и как-то мирно, чуть даже смущенно сказала:
— Да я не за этим, Порошков, пришла.
— А не за этим, так чего языком зря молотишь! Сядь и сиди, пока мы с Тимой глянем, чего тут у нас делается…
Порошков пошел куда-то за зеркала. Приезжий москвич — за ним.
Метрах в трех за зеркалами — это сооружение приезжий узнал сразу — стоял двухметровый, обшитый белой сосной, крестообразный интерферометр. Под ним, в глубоком проеме, едва слышно плескалась вода. Гофрированный рукав тянулся от интерферометра к мельничному жернову, спущенному в реку. Другой рукав уходил через потолок вверх.
Слышался странно булькающий, с легким прихрустом звук: словно не крупу рушили — воздушную кукурузу толкли в ступе.
— Глянь-ка сюда, — Порошков поволок Тиму куда-то за возвышавшийся метра на полтора над уровнем мельничного настила интерферометр, — такого ни у Миллера в Америке, ни в лаборатории Гельмгольца, ни у нас в России отродясь не бывало…
За интеферометром, на одном из береговых выступов краем проходящей под мельницей реки, стояла огромная ступа с металлическим пестом. Пест непрерывно двигался. К ступе проводом была присоединена здоровенная стиральная машина. В ней все было, как в обычной, только круглое окошко — размером с корабельный иллюминатор.
— Кочерга есть? — снова с подозрением спросил Порошков. — А поворотись-ка, сынку.
Приезжий москвич послушно повернулся.
Порошков быстро задрал ему плащ, потом, чуть помедлив, сказал:
— Нету… Ну, теперь тебе окончательно верю. А то все думал, ты — чертов кузнец. Или сам нечистик-мефистик.
— Какой нечистик? Негр я… Ну, говоря культурней — «гуталин». Тима-туземец я литературный!
Приезжий, обозлясь, пошел с мельницы вон. Но вдруг обернулся. Порошков стоял сзади с кочергой в руке и собирался ею кого-то огреть.
— Ты, «гуталин», не бойся, — засмеялся длиннобородый, — ты сюда глянь.
Он подскочил к стиральной машине и что есть мочи стукнул по ней кочергой. Машина заработала.
— Смотри! — крикнул Порошков. — У нас никакой чертовщины! А для нужд медицины — пожалуйста. Молодим дряхлеющих! Юним — престарелых! В самой-то эфиросфере ни старость, ни молодость значения не имеют, ни к чему они. Но покамест мы все тут, в обычном мире вожжаемся — нате вам, пожалуйста!
Приезжий подступил поближе.
Порошков снова огрел стиральную машину кочергой, и та завертела валиком раза в два быстрей.
Нежданно-негаданно за стеклом иллюминатора показалась голая рука. Дряхлая, морщинистая, в пигментных пятнах, в седеньких волосках. Рука в отличие от самого барабана бешено не вертелась — тихонько повертывалась… Пальцы руки свел писчий спазм, ногти от собственной длины аж загнулись. При этом рука — так показалось — все норовила сунуть кому-то под нос костлявый старческий кукиш. Но кукиш никак не складывался…