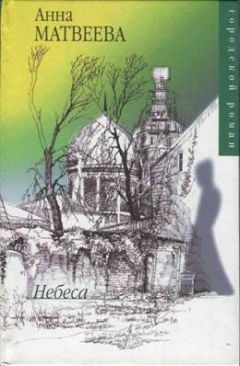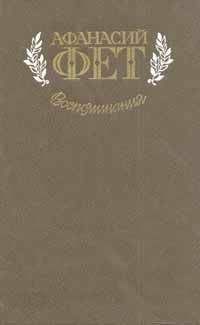Нрав у епископа был тяжелый как бетон. Вспыльчивый архиерей под горячую руку мог даже подзатыльник отвесить нерадивому, но и отходил быстро, зла не копил, не травился им, предвкушая долгую, вычурную месть. И хотя брехливых собак боятся меньше, чем тихих чертей, недругов у владыки хватало повсюду. Многие из них прорывали тайный ход к сердцу епископа, обращая особенности его характера себе на пользу: достаточно было прочуять, что владыка, при всей своей нетерпимости, добрый и великодушный человек.
В священнике доброта — драгоценность и достоинство, но епископ не рядовой священник, а духовный начальник, одно слово — владыка! Значит, должен уметь властвовать, наказывать, карать: для дисциплины и общей пользы. Владыка же Сергий только слыл грозным, а когда дело доходило до конкретных проступков, всякий раз жалел и прощал виновных. Взять хотя бы историю с расстригой Цыпляковым: епископ не только простил его, но сам венчал бывшего монаха и его беременную невесту.
Совсем недавно был еще один похожий случай. Многосерийный. В епархиальное управление начали приходить письма из Кырска, маленького городишки на севере области. Кырск — это клон Артемовой Ойли, с чахнущим заводом, чьи рабочие стали крестьянами. Впрочем, письма в Николаевск были не об этом. Кырчане жаловались на отца Серафима, настоятеля местного храма. С раннего утреца отец Серафим набирается водки, через силу пьяным служит, после чего лежит в ближайшей канаве до вечера, не в силах дойти до собственного крыльца. Рядом с любимой канавой кырского батюшки — детский садик, через ограду которого маленькие дети кидаются в Серафима сосновыми шишками. Артем, обернись он владыкой Сергием, отобрал бы у этого батюшки крест и вернул бы с позором в мужики. Епископ же запрещать отца Серафима не стал, а призвал в Николаевск для объяснений. Кырский поп хоть пропойца, но сообразительный, с порога пал владыке в ноги: «У меня четверо детей, пожалейте несчастных, что они, по дворам пойдут?»
Владыка перевел пьянчужку на другой приход, в город Семужинск. И теперь письма приходят из Семужинска, потому что отец Серафим каждый день лежит в канаве этого города…
Знал Артем и о других грешках, которые допускали для себя некоторые батюшки — допускали в расчете на доброту владыки: «Даже если попадемся, прокричится да простит». Вот и получалось: с одной стороны, епископ управлял епархией, а с другой — епархия управляла им.
Архиерею приходится общаться с людьми из разных кругов, и выбирать себе компанию по вкусу он часто не вправе. С военными, заводчанами, худо-бедно с политиками и журналистами владыка Сергий ладил легко, но бизнесменов он избегал любыми способами. Как только очередной нувориш рвался побеседовать с епископом, так немедленно и получал препровождение к игумену Гурию: тот, напротив, умел и любил общаться с деловыми людьми.
Незабвенные новые русские, николаевские бандиты в прославленных двубортниках цвета мертвой вишни, с чередой золоченых пуговиц, разбегавшихся к плечам, шли в храм, едва не взявшись за руки. Шли каяться, жертвовать на храмы, крестить детишек, замаливать грехи, отпевать убитых в перестрелке подельников… Веровать стало не менее модным, чем ворочать, и потому на сильных, словно бы надутых воздухом плечах засинели татуированные купола, а на мощных шеях повисли золотые цепи с бриллиантовыми крестами. Земной путь новорусского бандита часто был короток: ночной сон оканчивался взорванным поутру автомобилем, а веселый вечер в сауне — расстрелом. В теленовостях показывали жалкие голые тела в озерах натекшей крови, и матери ладонью прикрывали детям глаза. Бандиты знали — смерть придет за ними раньше срока: не по возрасту, а по заслугам и делам, потому и готовились к своей смерти тщательно. И конечно, бандитам хотелось, чтобы с ними имел дело пахан, или, по-церковному говоря, епископ: они готовы были платить по высшему разряду, но каждый раз упирались в указательную стрелку — вами займется игумен Гурий, очень и очень знающий священник. «Чем свечки пересчитывать, лучше подружился бы с парочкой авторитетов», — ворчали николаевские отцы, но архиерей не стремился к дружбе ни с влиятельными бизнесменами, ни с могущественными бандитами.
Свои счеты к владыке были и у интеллигенции. У той малой ее части, что уцелела после революции, эмиграции, войны и перестройки. Интеллигентные жители Николаевска возмущались одним чрезвычайно дерзким поступком епископа. Образно мыслящие припомнили даже костры инквизиции. Вот как все было на самом деле.
С год назад в епархии стали говорить, будто бы в высочайших кругах готовится канонизация известного московского священника, зверски убитого при невыясненных обстоятельствах. Умный, любимый паствой, принявший мученическую смерть, священник этот тем не менее вовсе не был столпом православия. Более того, в книгах своих проповедовал иные христианские вероучения, а уж для католических догматов у него всегда находилось доброе слово… Споров было много, но пока все судили да рядили о возможной канонизации, владыка Сергий во всей своей провинциальной простоте взял да и сжег старые журналы со статьями этого священника. Журналы хранились в библиотеке духовного училища и епископ, единственный раз объясняя поступок, сказал: «Что бы не было искушений». Интеллигенция тут же вскричала о кинжале в спину демократии: ведь среди людей неверующих нет особой разницы, какую веру веровать. Католик, буддист, харизматик — главное, чтобы человеку нравилось.
Впрочем, Артема тоже покоробило скоропалительное — в прямом смысле слова — решение епископа. Он бы никогда не решился на такое, хоть и понимал, что владыка поступил так только в силу преданности своей вере.
Врагов, судителей и ненавистников у владыки Сергия было в избытке, и трудно сказать, кто именно стал вдохновителем клеветнического похода. Именно вдохновителем, потому что статисты Артема интересовали меньше. Он неплохо знал игумена Гурия, имел представление о верхнегорском настоятеле Николае, авторе примечательного письмеца, которое опубликовал «Вестник». Оба игумена казались людьми осторожными, расчетливыми и никогда не стали бы пускаться в бой по собственному почину, не имея за спиной сокрытых войск.
За веревочки явно дергал кто-то другой.
Мне часто бывают сны, после которых наступает не пробуждение, а словно бы новая жизнь: я не просыпаюсь, а заново оживаю и благодарю все подвернувшиеся взгляду предметы за то, что они находятся на своих местах и жизнь, окруженная ими, продолжается. Сердце колотится, как пьяный сосед в ночную дверь, но лишь только начнешь вспоминать сон детально, до мельчайших сюжетных изгибов, выходит, что напугать он не смог бы даже младенца.
Чем старше я становилась, тем чаще снились мне такие сны — как в старых деревенских кинотеатрах крутят по многу раз один и тот же фильм: зрители произносят реплики раньше артистов, под ногами шуршит семечная шелуха.
Длинный, извилистый подвал, потолок которого постоянно меняет высоту. Под ногами бурлит и чавкает густая белая жижа, а сам подвал похож на подземелье николаевской городской больницы: несколько корпусов по странной прихоти архитектора соединены глубокими и бесконечными подземными ходами. Будто кроты, снуют по ним медики, родственники и хитроумные больные, как Монте-Кристо, убегающие из своей палаты.
Во сне потолок становится ниже и ниже, и мне приходится пригибать голову. Кланяться. Опускать плечи. Тоннель неуклонно сужается, а я ползу на коленях, на животе… пока они не соединяются — две сжавшиеся в тесноту плоскости: белого пола и земляного потолка.
Я знаю: это сон о моей смерти. Тысячи вещей случились со мной после мрачного лета открытий — я стала выше на семьдесят сантиметров, но так и не вылечилась от жуткого страха небытия. Сильнее всего он терзал меня летом, в жару — на память о детстве. Теплыми днями казалось, что смерть ближе, чем зимой: протяни руку — и достанешь. «Мне хотелось бы жить вечно», — обмолвилась я однажды Кабановичу, и он возмутился: «На каком основании?»
В предшествующий описываемым событиям год я похоронила друга — мы учились в одном классе. Я несла портрет, там ему двадцать: черно-белый портрет в рамке, с лентой через угол. Кладбища в Николаевске убирают плохо, я запнулась за кусок арматуры и упала в приготовленную для моего друга могилу. Кладбищенская земля пахла черным хлебом. Мать моего друга смотрела на меня с ужасом и отвращением: я разбила портрет, тонкая трещина расколола стекло — так трескается первый лед на лужах. Могильщики вытащили меня за руки, стеклянная соль разъела кожу до крови.
…После школы мы с моим другом виделись редко, но когда встречались случайно на улицах, он радовался и норовил напоить меня польским шампанским — сладким и пенистым, как шампунь. После смерти мы с моим другом виделись всего несколько раз. Я приходила редко и приносила ему сигареты: язычница, я раскладывала их под портретом, словно патроны, и смотрела, как дождевые капли красят папиросную бумагу в серый цвет. Ныли комары, и бомжи тихо шарились рядом, собирая с могилок цветы.