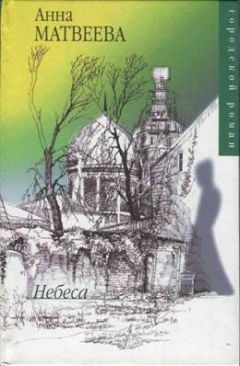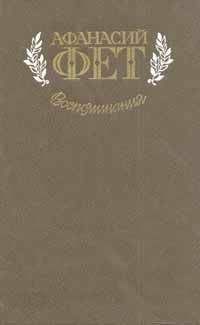…Сашенька сидит на заборе, свесив ноги поверх горячих досок, и дразнит мальчика Вовку из соседнего дома. Когда Вовка пытается огреть ее вицей, я выбегаю из калитки, а противник улепетывает в родной огород. Один мальчик против двух девочек всегда в проигрыше…
…Тогда у Сашеньки вовсю полыхал роман с Лапочкиным, и, конечно, по сравнению с Алешей Кабанович теряет даже те немногие достоинства, которые у него имеются. Впрочем, этими достоинствами он обязан низкому уровню развития: Кабанович проделал минимальный путь от животного к человеку, что и позволило ему сохранить в себе примитивные инстинкты…
…Дядя Миша везет нас на озеро. Я — его любимица, он всегда приносит мне разные подарочки, тогда как Сашеньке достаются одни только шоколадки, растопленные жарой в мерзкую замазку. В тот день он подарил мне прозрачно-багровые гранатовые бусы, вынул их из кармана куртки: гранатики облеплены соринками и табачными крошками. Сашенька сидит рядом, на заднем сиденье «Жигулей», и с деланным интересом разглядывает степные тюльпаны, мелькающие за окном красными быстрыми пятнами. Я чувствую приятную взрослую тяжесть бус на шее и вижу над подшейником водительского кресла загорелую шею дяди Миши, изрезанную белыми полосками морщин. В обзорном зеркале смеются темные хитрые глаза: такие в семье только у нас с дядькой…
…Самое обидное, продолжает Сашенька, что и случилось это всего один раз. Наивный, невинный Лапочкин в те самые дни предложил ей общее будущее, и сестра согласилась, еще не зная, что беременна…
…Ранние часы завтрака: застекленная веранда, старательный птичий хор, свежие булочки, которыми пропах весь дом, До последней дощечки — и даже в торжественно-церковных комнатах бабушки Тани пахнет горячей сдобой. В чашках, под пеной кружевных пузырьков — молоко от соседской коровы, в крошечных тарелочках, которые бабушка зовет ризетками, гладкие, как стекло, вишни. Масло плачет под ножом, по Сашенькиному лицу бегут солнечные полосы…
…Сначала сестра хотела сделать аборт, даже записалась на мини, но врач стала отговаривать: «Отрицательный резус, девушка, не рискуйте, а то родите урода в другой раз…»
…В городке темнеет рано и быстро, будто маленький художник, впервые в жизни рисующий красками, добрался до черного цвета и наглухо измазал им все небеса. Дед закрывает ставни, и в комнатах включают теплый желтый свет. Я сижу с книгой в кресле, а Сашенька рисует за столом: одни и те же принцессы с вытянутыми, некрасивыми лицами и еще лошади. Лошади у нее получались похожими на принцесс…
…После свадьбы, когда я была в дур… то есть в санатории, Сашеньку стало рвать по утрам — выполаскивало до самого нутра, и ей даже казалось, что она может выблевать собственное сердце. Алеша радовался как безумный…
…Откуда знать Сашеньке, что представляет собой радость безумных? Правильнее было бы спросить об этом у меня.
Сашенька смотрела на меня бледная и припухшая, словно облако.
— Почему ты думаешь, что это ребенок Кабановича? — Я выдавила из себя этот вопрос, как выдавливают остатки зубной пасты из тюбика.
Сашенька вскинула голову: она знает, и точка.
За окном медленно просыпалось утро — такое же, как я, прибитое, серое, кислое. Оставалось выяснить у сестры всего одну вещь:
— Зачем ты мне это рассказала?
На границе ночи и утра в городе гаснут фонари — резко, в секунду, будто хозяйственный великан прижал гигантский выключатель. Сильное зрелище не зацепило ни меня, ни сестру, хотя мы обе смотрели в окно. Мои мозги так истощились в эту ночь, что теперь автоматом выдавали нелепые мысли: Сашенька хочет, чтобы я усыновила ее ребенка. Или устроила ей встречу с отъехавшим в Штутгарт Кабановичем…
— Мне надо было с кем-то поговорить. И еще я должна обо всем рассказать Алеше.
Возмутительно! Биологическому отцу Сашенька и не подумала сообщать новость (впрочем, Кабанович искренне ненавидел любых младенцев, и я не смогла бы вообразить его лобызающим ребенка, даже под угрозой гибели). Зато безвинному Лапочкину, не раз доказавшему свое благородство — а нынче еще и духовность, — придется выслушать самую кошмарную вещь из тех, что может выпасть на долю слушающего мужчины. Любимая Сашенька беременна от бывшего сожителя своей сестры! Создатели мексиканских «мыльных опер» намыливают веревки и синхронно давятся от зависти, узнав о таком повороте сюжета, но бедный, бедный Алеша не может выключить телевизор…
Я никогда не размышляла над природой Сашенькиных успехов, но знала, что почти все граждане мужского пола вне зависимости от возраста смотрят на нее с вожделением. Кабанович всего лишь не сумел стать исключением, и одним из объяснений этой напасти может служить фригидность, о которой сестра проговорилась однажды без всякой досады. Может быть, мужчин и влекла эта льдистая тайна, эта замороженная звезда, которую каждый самонадеянно обещал отогреть, но довольно быстро убеждался в победительной сущности этого холода. Так морозными судорогами сводит ладонь, зажавшую горсть свежего снега. Холодность сестры манила куда сильнее горячих, вечно горящих глаз прочих женщин. Как обычно, в случае с Сашенькой все вставало с ног на голову — по общепринятым традициям я должна бы пожалеть ее. А сама завидовала и даже видела за ее фригидностью некую особенную чистоту — словно бы Сашенька вправду была сложена из прозрачного льда и выпавшего из белых облаков снега.
Жизненное везение сестры представлялось мне доказательством незамысловатого душевного устройства. Разве не самым тонким из нас выпадают на долю суровые испытания, тогда как человеческие сорняки произрастают в условиях, максимально приближенных к райским? Прежние представления можно было выносить вместе с мусором: впервые в жизни Сашеньке досталось от судьбы по полной программе. Какой-то частичкой души я жалела ее, но все остальные части пребывали в Унылой, беспомощной ярости. Сестра повернулась ко мне звериным ликом. Зверь поднялся с бессонной ночной постели для того, чтобы разбудить меня. И убить откровенностью.
…Наш отец был страстным охотником: как только открывался сезон, мчался сперва за лицензией, а потом в леса. Два или три дня его не было, но потом отец гордо появлялся на пороге: в штормовке и штанах защитного, как тогда говорили, цвета, пропахший костром и куревом. Мы с Сашенькой выбегали ему навстречу и получали приказ начисто отдраить резиновые охотничьи сапоги: они казались нам нескончаемыми, а отмокшие комья грязи с налипшими хвоинками плавали в тазу, клубами выкрашивая воду в темный цвет. Отец разглядывал работу, хвалил Сашенькин сапог и ругал мой, но дарил каждой по заячьему хвостику. Эти пушистые хвостики мне очень нравились, пока я не заметила места «крепления» хвоста к бывшему зайцу — крошечный след был покрыт спекшейся коричневой промазкой, в которой Сашенька узнала кровь…
Я не играла больше с хвостиками и перестала есть принесенную из леса дичь. После охоты мама и отец весь вечер щипали и потрошили трофеи, намертво затворив дверь: от нас это зрелище скрывали, и если даже удавалось на минуту пролезть в кухню, то успевали мы всего лишь глотнуть острого запаха крови или увидеть нещипаную птицу с безвольно поникшей головкой.
К обеду подавали загорелые кусочки рябчиков и копалух, плавающие в густом теплом море соуса, с бусинками брусники на берегу… Я вспоминала вчерашний запах крови и закрывала рот руками: отец обиженно хмурился. Сильнее всех я жалела вальдшнепов — их крошечные, недоразвитые тельца походили на воробьиные. Радостная Сашенька показывала крошечные темные шарики, застрявшие в птичьем мясе, и теперь я хорошо понимала, что чувствует «лесная курица», когда в нее прилетал заряд дроби… Подстреленная, сидела я в кухне своей сестры, безвольно склонив голову набок. Вновь и вновь пыталась укрыться за детскими воспоминаниями и думала: уж лучше бы мы снова мыли вместе бесконечные отцовские сапоги…
— Ты уверена, что Алеше нужно знать об этом?
Сашенька сказала, что не сможет жить с таким грехом на душе, ее снова стало рвать словами. Она говорила долго, захлебывалась, плакала, а когда наконец, устав, замолчала, в кухне появился Алеша, бледный, как античная статуя. Скорее Дионис, нежели Персей, и стало ясно, что рассказывать ему ничего уже не нужно.
Артему казалось, будто он не в Москве был, а на Луне, и не семь дней, а семь лет — так сильно все изменилось в епархии. Священники быстро целовались при встрече и тут же разбегались, чтобы не выяснять дальнейшим разговором: кто с кем и кто за кого. Артем поймал за рукав приближенного владыки, но тот только руками замахал: «Некогда мне, отец, некогда!» Сотрудники епархиальной пресс-службы вглядывались в мониторы так пристально, словно бы там было начертано их будущее. Артем направился к храму и, уже почти вступив на паперть, захватил боковым зрением высокую фигуру: владыка медленно шел между старых могил. Рядом шагала старуха нищенка, над лицом которой вволю поглумилась неизвестная Артему болезнь. Вначале он хотел догнать странную парочку, но сам себя остановил: вдруг эта беседа важна для епископа?..